Романов Ю.В. "Я снимаю войну..." Школа выживания
Нагорный Карабах
Билет в один конец
(с небольшими сокращениями)
 Господи, да что же это за «национально-освободительная» борьба такая?
Господи, да что же это за «национально-освободительная» борьба такая?
Когда число погибших в твоих кадрах начинает переваливать за критическую отметку, в голове как будто щелкает какой-то переключатель, и мозг уже перестает воспринимать страдания. И это у меня, пришлого, чужого человека, практически — наблюдателя на чужой войне. Начинаешь работать как-то отстраненно. И от этого кадры получаются технически достаточно совершенные, но из них уходит что-то неуловимое. А заглянуть в душу местным жителям? Там, мне кажется, откроется такая черная и беспросветная бездна горя и страданий...
Фото: Рубен Мангасарян.
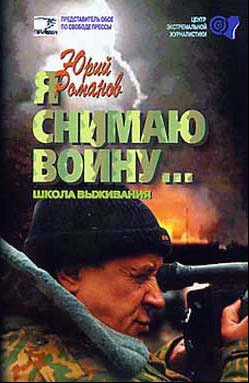 Как-то так получается, что все мои маршруты по азербайджанскому «фронту» начинаются и заканчиваются возле агдамской соборной мечети и морга возле нее. Сюда привозят трупы, отсюда машины уезжают за новыми. Со многими водителями я уже познакомился, и они, разгрузив свой страшный груз, подсаживают меня в машину, идущую туда, где стреляют. И я уже спокойно сажусь в транспортное средство, в кузове которого переливаются литры крови, натекшей из ран. Иногда водители, жалея меня, берут в кабину, и я еду в бой в относительном комфорте, и одежду с обувью от чужой крови потом отмывать не приходится.
Как-то так получается, что все мои маршруты по азербайджанскому «фронту» начинаются и заканчиваются возле агдамской соборной мечети и морга возле нее. Сюда привозят трупы, отсюда машины уезжают за новыми. Со многими водителями я уже познакомился, и они, разгрузив свой страшный груз, подсаживают меня в машину, идущую туда, где стреляют. И я уже спокойно сажусь в транспортное средство, в кузове которого переливаются литры крови, натекшей из ран. Иногда водители, жалея меня, берут в кабину, и я еду в бой в относительном комфорте, и одежду с обувью от чужой крови потом отмывать не приходится.
Конец февраля в Азербайджане ничем не отличается от декабря и января. Тот же промозглый туман над полями, то же воронье... Тот же снег, который на земле немедленно превращается в липкую грязь. Тучи, сползающие с Кавказского хребта, приносят новые порции дождя и снега. Противоградовые установки «Алазань» используются не для влияния на погоду, а, напротив, для влияния на людей, для запугивания и убийства.
На карабахском фронте появляются установки залпового огня, напоминающие «Катюши» военных лет. 13 января 1992 года при обстреле города Шаумяновска азербайджанцы впервые применяют боевую реактивную установку залпового огня «Град» (ранее все эти установки и снаряды принадлежали Советской Армии). В отличие от имеющих небольшую площадь поражения ракет «Алазань», которыми практически нельзя вести прицельный огонь, система «Град» предназначена для поражения больших площадей, и ее ракеты обладают большой разрушительной силой. Если от «Алазани» еще можно было спрятаться под обычной крышей, то от «Града» спасения нет — он бьет по площадям. Все живое в «площади» попадания залпа взлетает на воздух и перемешивается с землей. Одну такую установку азербайджанские «самооборонцы» не то стащили, не то купили на армейских складах и поставили около села Шелли, практически рядом с Агдамом, и теперь голубой мечтой всех фотографов стала съемка этой установки. Мне посчастливилось — пошел на звук залпа и обнаружил эту «Градину», стоящую между двумя небольшими сопками. Встал за дерево и начал ждать момента выстрела.
Один залп гремит по направляющим рельсам, все в огне и дыму, одна за другой срываются ракеты и уносятся в пространство. Установка окутывается дымом и пылью. Оказывается, она работает сама по себе. После того как зеленые фигурки-солдаты что-то там подкручивают, подвинчивают, в соответствии с указаниями, полученными по рации, они убегают и прячутся в недалеко вырытый окопчик. Но первый залп снять не удается, так как он происходит мгновенно, и я просто не успеваю настроить камеру. Приходится дожидаться следующего. Пока солдаты укладывают ракеты на направляющие, меня замечает зоркий глаз «соответствующего органа» и немедленно вытаскивает пистолет. Проверив все документы, но не очень-то поверив в них, он решает препроводить меня в штаб для «оргвыводов». Спасибо — не пристреливает на месте...
От околицы села Шелли, где стоит установка, до штаба нужно пройти несколько километров по грязным улицам Агдама. Мне торопиться некуда, мы идем спокойно. «Безопасник» идет на шаг сзади, словно отставая от меня, и держит пистолет в кармане длинного плаща. Я почти физически чувствую, что направлен ствол в мою сторону.
— Ты зачем меня задержал? — бурчу я недовольно.
Он даже приостанавливается от такого нахальства. Все задержанные обычно ведут себя тише воды ниже травы. Здесь управление безопасности, или как там называется местное КГБ, имеет огромную власть, и с ним стараются не спорить — себе дороже. А тут пленник, застигнутый на «месте преступления», за съемкой военного объекта, высказывает недовольство.
— Что я снимал «секретного»? — не успокаиваюсь я.
— Как «что»? А установка «Град» разве не секретная? И место ее дислокации... Вдруг к армянам попадет этот снимок?
— Установка продается во все страны, а место дислокации должно иметь «привязку» к карте... Даже если снимок попадет к армянам, они не смогут вычислить эту установку. Мало ли вокруг одинаковых гор...
— Ты был на той стороне? — неожиданно меняет он тему.
— На какой «той»? У армян, что ли? Был, конечно...— рассеянно киваю я.
— Ну и как там у них?
— Обычно, — настораживаюсь я. — В принципе так, как и здесь. Никакой разницы...
— А танки у них видел?
— Не помню...
— Как это не помнишь? Есть там танки или нет?
— Что ты ко мне прицепился? Я на всех войнах был и со всех сторон... Последний раз был в Югославии, там точно видел танки. А у армян был в прошлом году, в 91-м... Какой тебе толк в том, видел я там танки или нет? Там же войска советские стояли, конечно, были там танки. И пушки были... Тебе-то какая разница?
— Вот пристрелю «при попытке к бегству» или прострелю колено (выделение Admin), почувствуешь разницу...
— Интересно, как ты это Мусе Мамедову объяснишь? Куда я бежать собрался, что ты в меня «вынужден» был стрелять? И как он тебе поверит, если я по его разрешению работаю?
— Мамедову? — у «особиста» прерывается дыхание. Представитель президента в Агдаме слывет администратором крутым и скорым на расправу. С Мамедовым я, конечно, встречался, брал у него интервью. Мы говорили о гранях возможного в работе журналиста применительно к войне в Нагорном Карабахе. Но разрешения на съемку конкретной установки я у него, конечно, не спрашивал... Если «гебист» обратится к столь высокому для него начальству, то Мамедов, конечно, вспомнит то интервью. Без подробностей, но вспомнит... Но основная надежда была на то, что с таким вопросом рядовой «безопасник» к Мамедову не осмелится обратиться...
Я продолжаю «додавливать»:
— Вот ты меня спрашиваешь о военной технике твоего противника. Хорошо, я, что знаю, расскажу, хотя знаю немногое... Приеду на армянскую сторону, там спросят о том, что я видел у вас... Мне тоже рассказывать? И как это называется? Шпионаж? А я кто? Двойной агент? Ты знаешь, что вопросы такого рода журналистам задавать даже не полагается по Международной конвенции?
Про Международную конвенцию он что-то слышал, но тоже подробностей не знает. А я не знаю, существует ли вообще такая конвенция...
Как говорили Ильф и Петров, «Остапа несло...».
Я рассказываю «безопаснику» разные случаи своего задержания в тех или иных ситуациях, как правило, во время съемки объектов, которые местные считают очень секретными. Но они не являются таковыми с точки зрения закона. Естественно, все эти мои байки заканчиваются полным посрамлением «гебистов». Этот оказывается «крепким орешком», но часа через два, когда солнце начинает уже закатываться за горизонт и мы, наконец, подходим к штабу, он проникается сочувствием к тяжелой судьбе репортера. В штаб мы заходим уже лучшими друзьями, договорившись завтра вместе поехать на «передовую».
Всю ночь гостиницу сотрясает непонятный грохот. На горизонте, несмотря на конец февраля, полыхают зарницы, словно обещая мощную грозу, но дождь так и не проливается. Утро встает хмурое, с легким морозцем и снежными «мухами», падающими на затвердевшую грязь. Она только сверху схватывается корочкой, которая легко продавливается, и ботинки то и дело норовят приклеиться к земной поверхности. Я с трудом добираюсь до штаба.
В штабе царит мрачное настроение. Все офицеры, накануне приветливые и разговорчивые, сегодня, увидев камеру или диктофон, стараются скорее спровадить журналиста. Отчаявшись получить какие-нибудь сведения в штабе, я отправляюсь к госпитальному поезду. Знакомый водитель «санитарки», который проводит за рулем большую часть суток, произносит название, которое с этого дня будет знать весь мир: ХОДЖАЛЫ... Было 26 февраля 1992 года...
Вообще в эти дни на карабахском «фронте» складывается странная ситуация. В газетах, по радио и по телевидению всей России рассказывают об этой действительно полномасштабной войне как о маленьком межнациональном конфликте. Вроде бы два соседа подрались из-за межи. А на самом деле здесь идет настоящая война — с танками, пушками и множеством убитых и раненых.
По телевидению показывают противоречивые сюжеты об азербайджанском ОМОНе, который то ли бесчинствует, то ли грудью стоит на страже закона в аэропорту Степанакерта. Что же происходит на самом деле? Поскольку автор может быть очевидцем ограниченного круга событий, он обращается к заслуживающим доверия независимым источникам. ...Санитарный поезд стоит на полустанке «Агдам-товарная», расположенном невдалеке от самого города. Его дома хорошо видны от платформы. По другую сторону путей — дощатые дачные домики на участках в стандартные 6 соток. Домики, в большинстве своем, частично разобраны на топливо. Станционное кирпичное здание играет роль «приемного покоя» в больнице. Сюда автомашины — и не факт, что это кареты «скорой помощи» — привозят раненых. Где водители автомашин подбирают раненых, непонятно, но вот когда раненый уже на борту, водители включают дальний свет фар и мчатся по скользкой от грязи, разбитой дороге с умопомрачительной скоростью, распугивая редких прохожих и еще более редкий транспорт прерывистыми, словно задыхающимися сигналами.
Очень часто, практически каждая вторая машина, привезшая раненого, опаздывает. Ее пассажир в помощи уже не нуждается, погибая от раны, тряски и потери крови. Но их тоже выгружают на этом скорбном поезде. Потом на носилках добровольные санитары уносят покойников за здание станции, где уже стоит длинный ряд таких же носилок, с которых умершие смотрят в пространство невидящими глазами. На холодные бледные их лица с серого неба, словно прощальный подарок Господа, падают и не тают на коже редкие снежинки.
... К поезду ведет широченная разъезженная дорога, которая по размерам могла бы соперничать с автострадой. Но ширина ее объясняется просто. Водители не хотят ехать по колеям, а прокладывают рядом с ними собственный путь и так, проскальзывая, с заносом и юзом, они преодолевают бездорожье практически по целине. С утра подмерзшая поверхность еще держит машину, а ближе к полудню, когда становится чуть теплее, движение почти замирает. Машину с ранеными, застрявшую на этой «автостраде», дружно вытаскивают солдаты, родственники раненых и даже врачи.
Когда мы приезжаем, наконец, к госпитальному поезду, на платформе и в вагонах идет кровавая работа. Одна за другой к перрону подъезжают машины с горящими фарами, и с них сгружают уж совсем непривычных раненых: женщин, детей и стариков. Мужчин почти нет...
— Откуда привезли? — спрашиваю очумевшего водителя.
— Ходжалы... — машет он рукой, и как только кузов освобождается, машина рывком трогается и уезжает...
— А это откуда? — спрашиваю второго водителя, привезшего в салоне «уазика», в просторечии называемого «буханка», целую семью. Израненные, все в крови, женщина и трое детей. Глава семьи лежит на железном полу без признаков жизни. Четвертого ребенка, окровавленный сверток, женщина покачивает в руках... Когда глохнет перегруженный двигатель, становится слышно, как женщина тихо поет колыбельную без слов:
— Аа-аа-аа-а!
— Мама! Мамочка! — дергают ее за рукав мальчик и две девочки постарше... Они тоже покалечены или ранены, их одежда также залита кровью. Но мать на них внимания не обращает...
— Ходжалы... — говорит водитель, помогая выйти из машины раненой женщине с мертвым ребенком.
Одна за другой подходят машины с ранеными. На дороге образуется целая колонна разномастных автомобилей с горящими фарами. Один из водителей, садясь в кабину, замечает:
— У нас только свадебные колонны вот так днем с фарами ездят...
А кровавая «свадьба» продолжается...
По перрону вдоль состава мечется плотный подполковник медицинской службы. У него землистое лицо и одышка человека, у которого не в порядке сердце. Но необходимость быть во множестве мест одновременно не дает ему и минуты отдыха. Ханлар Гаджиев, начальник медицинской службы Министерства обороны Азербайджана, на минуту приостанавливается и кладет под язык белую крупинку нитроглицерина.
— Что происходит в Ходжалы?
— Мы еще точно не знаем, но, по всей вероятности, группа беженцев попала под перекрестный огонь... Скоро туда полетит вертолет...
— Много пострадавших?
— Не то слово, — он достает блокнот. — Сейчас, на 13 часов, только врачи нашего поезда оказали помощь 290 человекам. Из них — 123 с обморожениями. Огнестрельных ранений — 67. Пулевых — 43, осколочных — 24. Плюс ножевые ранения имеют 8 человек... [ см. страницу "Как создаются фальшивки". Admin]
Шлепанье лопастей и гул оглушают нас. Из низких облаков материализуется вертолет.
Гаджиев кричит:
— Мы в Баку уже 66 человек отправили... Сейчас следующая партия полетит.
— Сейчас не полетит...
Неслышно за шумом винтов подходит старый знакомый, Зульфи Касымов. Он заведует аппаратом исполнительной власти в районе. Своего рода — теневое правительство.
— Мы сейчас полетим в Ходжалы. Вы с нами? — обращается ко мне.
— Странный вопрос. Конечно...
— Сейчас наш оператор подъедет и тронемся...
— А раненые в Баку?
— Мы ненадолго. Максимум полчаса-час...
Из «санитарки» выскакивает старый знакомый, телеоператор Чингиз Мустафаев. Обычный бытовой «Панасоник», камера довольно большая, но на его плече кажется игрушкой. Он одет в армейский камуфляж, на плече — автомат, на поясном ремне — пистолет Макарова в кобуре.
Мы прыгаем в вертолет, за нами забираются Касымов и два милиционера. Все вооружены. Такой странный состав «делегации», да еще и вооруженной, мне не очень нравится, и я склоняюсь к уху Чингиза.
— Зачем мы туда летим?
— Для съемки. Распоряжение приш ло с самого «верха»... — показывает он пальцами на потолок кабины вертолета.
— Ты думаешь, нам разрешат снимать? Кто там контролирует ситуацию?
— Армяне, конечно... Думаю, договоримся.
Я пожимаю плечами. По меньшей мере наш полет выглядит авантюрой. Без договоренностей, без подготовки летим туда, где несколько часов назад были расстреляны тысячи людей.
И как сами убийцы отнесутся к появлению вертолета с журналистами? Авантюра чистейшей воды. Чем дольше я обдумываю сложившуюся ситуацию, тем меньше она мне нравится. Ну ладно, Чингиз вообще парень «безбашенный». Я много раз был с ним на съемке, поражаясь тому, как он совершенно бестрепетно снимал там, где не только что снимать — высунуть нос нельзя было.
Касымов явно хочет выслужиться перед президентом, а приказ на полет пришел, скорее всего, от Муталипова или его ближайшего окружения. Милиционеры и летчики — люди подневольные. Им приказали — они полетели... А меня-то почему сюда черт занес? Мне-то что, больше всех надо?
Пока я казню и ругаю себя, тон работы двигателя меняется. Кажется, прилетели...
Я выглядываю в круглое окошко и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, остатки зимних сугробов, лежат мертвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка...
Глаз вырывает из месива тел две фигурки — бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломленный, я даже не сразу вспоминаю о камере...
Но шок проходит, и я начинаю съемку пока из окна. Вертолет зависает над полем, летчики выбирают место, чтобы колесо не потревожило никого из павших...
Вдруг винтокрылая машина, не приземлившись, как-то подпрыгивает в воздухе и сваливается вправо, в какой-то безумный вираж вниз, параллельно склону. Перед глазами в окне, совсем рядом, проносятся трава, камни и трупы, трупы, трупы...
— Что случилось? — отрываюсь от видоискателя.
— Обстреливают...— лаконично говорит Чингиз, не отрываясь от камеры. — Хорошо, что они далеко.
— Кто это?
— А кто знает? Армяне, наверное... (выделение Admin)
Вдалеке, почти на границе видимости, темнеют фигурки людей, одетых в армейский камуфляж, которые, словно из шлангов, поливают наш вертолет автоматными очередями... От них к вертолету тянутся красные пунктиры. Один из сопровождающих нас милиционеров вскрикивает и бледнеет. Пуля, пробив обшивку вертолета, попадает ему в бедро.
Летчики, не поднимая тяжелую машину над холмами предгорий, держат ее буквально в метре от земли. Как им удается на скорости почти 200 километров в час реагировать на малейшие неровности земной поверхности? Вертолет мчится, словно автомобиль по трассе. По сторонам мелькают редкие кустики, кучки камней... Через несколько мгновений такого сумасшедшего полета, показавшихся нам часами, вертолет взмывает в простор вечереющего неба и почти сразу же скрывается в низких облаках.
Нас окутывает серый влажный туман. На прозрачном пластике окон собираются мельчайшие капли, которые, быстро укрупнившись, стекают на обшивку.
Мастерство летчиков выносит нас из зоны обстрела...
Я смотрю на Чингиза. По обветренному, остановившемуся лицу сильного человека бегут слезы. Поймав взгляд, он спохватывается и с силой проводит по глазам ладонью...
— Почему? Деток-то за что? — бормочет он... А слезы снова выступают на его глазах.
Я смотрю на счетчик своей камеры. Он показывает, что вся моя съемка продолжалась 37 секунд... 37 секунд кошмара.
Буквально через 20 минут полета мы возвращаемся на место старта у санитарного поезда. Приземлившийся вертолет оказывается в кольце людей, которые смотрят на нас словно на выходцев с того света. Словно не веря своим глазам, люди дотрагиваются до нас.
— А ведь мы вас уже похоронили... — говорит Гаджиев. — Ну, хвала Аллаху, целы!
— Не все целы, — откликается Касымов. — Пошлите санитаров, милиционера ранило...
Его лицо бледно, руки, когда он пытается прикурить, дрожат и никак не могут справиться с зажигалкой. Потемневший лицом Чингиз раздвигает кольцо людей, садится в машину и уезжает в Агдам.
У меня свои заботы, 37 отснятых секунд жгут мне руки. Я выхожу из круга людей и поднимаю камеру.
В видоискателе — дорога, по которой мчится машина с ранеными. Вот раненых выгружают на носилки, прямо с платформы через открытые окна вагонов заносят в операционный вагон. Девочка лет шести с перевязанной головой. Повязка сделана так, что полностью закрывает ей оба глаза.
Не выключая камеры, я наклоняюсь к ней:
— Что с тобой, милая?
— Глазки горят... Глазки у меня горят... Дядя! Глазки у меня горят!!!
Врач трогает меня за плечо:
— Слепая она. У нее глаза были выжжены окурками... Когда ее привезли к нам, из глаз торчали окурки...
Пусть простит меня читатель. Но то, что видели мои глаза и слышали уши, не может передать мой бедный язык. Такие воспоминания даром не проходят, и, написав эту главу вечером, утром я обнаруживаю на висках новую седину...
Из жизни фидаинов
...Кто-то из пишущих корреспондентов «Ассошиэйтед Пресс» передает информацию о том, что «фидаины» — армянские то ли боевики, то ли партизаны — отбили у азербайджанцев господствующие высоты в Нагорном Карабахе и на границе с Нахичеванской областью Азербайджана.
Саша Земляниченко, руководитель московской фотослужбы АП, задумчиво тянет:
— Картинку бы неплохо иметь...
— А пленочки подкинешь?..
...Следующим ранним утром в надежде на практически гарантированную продажу негативов, забрав из дома почти все деньги, я улетаю в Ереван.
Апрель в горах Армении — чудное время. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробиваются первые стрелки новой зелени. Полчаса пути от Еревана на такси, и я в Ерасхе — городке, что в километре от спорной границы. В штабе встречаются знакомые по прошлым приездам командиры, и формальности занимают минимум времени.
Меня сажают на «армянский броневик» — обшитый блестящим оцинкованным кровельным железом «уазик», до отказа загруженный какими-то длинными ящиками. Ящики немного перекладывают, образуется небольшая ниша, в которую я с трудом втискиваюсь, и мы едем на передовую, сверкая на все горы солнечными зайчиками.
По дороге нас обстреливают. Наверное, блеск нашей машины ослепляет стрелков, или стреляют издалека, но все пули шуршат и щелкают по камням, не долетев до цели, и к окопам мы добираемся благополучно.
Когда, наконец, начинается разгрузка, я с ужасом вижу, что все ящики, которыми до отказа загружена машина, заполнены взрывчаткой и «выстрелами» для ручных гранатометов.
В одном из ящиков, в том, который все время съезжал мне на спину, а я всю дорогу подталкивал его затылком, в дополнение к взрывчатке, лежат еще и детонаторы. Если бы хоть одна пуля из тех очередей, которые были выпущены в нашу сторону, попала в машину, то примерно полтонны взрывчатки разнесли бы нас на атомы. А в долине мог образоваться приличных размеров кратер.
...Радостные бородачи встречают нас с распростертыми объятиями. Радость их относится, конечно, не к журналисту, а к боеприпасам, но все равно приятно. Правда, при виде камеры они как-то скучнеют. Забрасывают «удочку»:
— За то, что ты привез нам боеприпасы, мы тебе дадим пострелять... — на их взгляд, «приманка» что надо.
— Нет, спасибо, — вежливо отказываюсь. Начинаю понемногу настраивать камеру. Баланс...Резкость... Боковым зрением вижу, что один из бойцов почти синхронно с моей камерой настраивает гранатомет. Подходит, протягивает оружие:
— Вот, возьми, стрельни по селу...
С высотки видны совершенно безлюдные дворы азербайджанского села Сандарак. Тишина могильная. Даже собаки и куры попрятались. Недоумеваю:
— Зачем стрелять, цели-то нет?
— Почему обижаешь? Вот она — цель! Все село... Они-то по нашим селам стреляли, пока здесь стояли...
Получив вежливый, но твердый отказ, боец как-то даже теряется. Как может человек, мужчина, вот так взять и отказаться от возможности безнаказанно пострелять? В его глазах даже какая-то жалость появляется.
Но к съемке бойцы относятся с пониманием и позируют азартно. Даже хотят сами пострелять «для карточки». С трудом постигают, что постановочные кадры мне не нужны. Наконец начинают разгружать машину, потом возвращаются к обычной жизни. Съемка пошла...
...Камера в работе, обо мне все забывают и занимаются своими делами. Солдат в окопе слишком озабочен тем, как бы самому не попасть под пулю, чтобы обращать внимание еще и на оператора или фотографа, поэтому спустя достаточно короткое время появляется возможность работать относительно спокойно.
Желательно соблюдать все тот же принцип — съемки «с пяти точек». Но «пятая точка» находится за бруствером. В том случае, если этот бруствер находится достаточно далеко от линии соприкосновения с противником, можно рискнуть зайти за него, чтобы снять фронтальный план...
...Но история со снаряженным гранатометом продолжается спустя некоторое время. После съемки и интервью с командиром я направляюсь к машине. Командир долго прощается...
Вдруг раздается жуткий грохот, и в нашу сторону по окопу летит пыльная взрывная волна. Поскольку мы уже спустились немного по склону высотки, волна проходит над головами. Командир одним прыжком исчезает в пыльном облаке. Через минуту возвращается, придерживая за плечи бойца, который настойчиво предлагал мне пострелять из гранатомета. У парня с руки капает кровь, скатываясь на землю пыльными шариками.
— Что случилось?
— Враги НУРСом обстреляли...
Позже выясняется, что никаких врагов и никакого НУРСа (неуправляемого реактивного снаряда) не было. Просто у парня чесались руки пострелять, а тут гранатомет снаряженный. Что уж он там из «Наставления по стрельбе из гранатомета» не выполнил, только прорубил себе палец вместе с ногтем и, к собственной досаде, вместе со мной отправляется в тыл.
...Ночью в штабе слышу недалекую стрельбу. Гостеприимные хозяева не особенно беспокоятся. Ужинаем половиной буханки сырого хлеба с упаковкой старого повидла, да сколько угодно воды из близкого арыка, и отправляемся спать. На рассвете с одним из командиров, Петром Саркисяном, отправляемся в село с совершенно непроизносимым названием — Ехегнадзор.
Машина — трясущийся от старости трехосный армейский «Урал» видывал лучшие времена. Что уж там в него налили вместо бензина? Только дымит он так, словно дымовую завесу ставит.
Вдалеке парит над землей та самая гора Арарат, где, по библейскому преданию, припарковал свой ковчег Ной. Она кажется совсем близкой, рукой достать. Саркисян, бывший школьный учитель, рассказывает, что на вершине нашли обломки очень старого огромного корабля, и библейская легенда не так уж далека от истины. Проверить это, к сожалению, невозможно, так как гора Арарат находится в Турции, да еще между Турцией и Арменией лежит территория Нахичеванская область враждебного армянам Азербайджана. С турками, полагает Петр, договориться можно, но с «азерами» — никогда... Называется, приехали! Наелись суверенитета по самые уши...
Непроизносимое село остается в стороне, а наш «Урал» начинает карабкаться в гору. Причем идет он каким-то немыслимым зигзагом. Петр объясняет, что «вот эта гора — наша, а та — еще азербайджанская, и оттуда нас могут обстрелять. Лучше проехать незаметно».
Взглянув в заднее стекло, я сильно сомневаюсь в скрытности нашего передвижения. Дымовая завеса, которую создает двигатель нашей машины, кажется, окутывает все соседние горы до самой Турции. Если бы Ной все еще находился на Арарате, то, наверное, передумал бы покидать ковчег, опасаясь после всемирного потопа еще и пожара. Словно подтверждая мои худшие опасения, впереди, метрах в ста от нас, вырастает безобразно коричневый куст разрыва. Из-за рева мотора свиста снаряда не слышно.  Не слышно приближения и второго снаряда, который разрывается сзади, качнув машину взрывной волной. Мы, словно горох из дырявого мешка, высыпаемся на дорогу и бежим в сторону второго разрыва. Снаряд пробил в каменистой почве неглубокую воронку, но мы занимаем ее в надежде, что второй раз в одно и то же место никто стрелять не будет.
Не слышно приближения и второго снаряда, который разрывается сзади, качнув машину взрывной волной. Мы, словно горох из дырявого мешка, высыпаемся на дорогу и бежим в сторону второго разрыва. Снаряд пробил в каменистой почве неглубокую воронку, но мы занимаем ее в надежде, что второй раз в одно и то же место никто стрелять не будет.
Противно и кисло пахнет взрывчаткой. Становится обидно за красоту величественных гор, за изумительно чистый воздух, за тишину, которые так варварски бездарно запакостил человек. И ради чего? Всего лишь ради амбиций нескольких политиканов, возомнивших себя властителями...
Разрываются еще несколько снарядов, которые, к счастью, не попадают ни в нас, ни в наше средство передвижения. У машины мотор самопроизвольно глохнет, и она, естественно, перестает дымить. Легкий сквознячок от речки уносит вонючую синюю завесу. Вероятно, артиллеристы считают, что их труды увенчались успехом, и обстрел прекращается. Мы сидим в воронке еще полчаса для страховки и решаем дальше идти пешком.
Как-то незаметно мы поднимаемся на приличную высоту, и вокруг нас только желтая сухая прошлогодняя трава. Кое-где на склонах, обращенных к северу, лежит серый ноздреватый снег. Идти с полным кофром аппаратуры трудно, воздуха не хватает. Бойцы, под завязку нагруженные оружием, патронными цинками, идут, словно по прямой асфальтовой дороге, без малейшего напряжения. Спустя полтора часа мы приходим на позиции отряда.
Груда огромных камней служит «фидаинам» надежным укрытием. Учитывая отсутствие у противоборствующих сторон авиации, позиция — лучше не придумаешь. Здесь никто пострелять не предлагает, попросту не обращая на меня внимания.
Работаю спокойно, стараясь никому не мешать, и как-то незаметно для себя выхожу из-за укрытия. Уж больно колоритен этот чернобородый боец. Держа в руке снайперскую винтовку, он смотрит в огромный бинокль на штативе. Такие бинокли я видел только на вышках у пограничников. Несколько щелчков...
Вдруг богатырь поворачивается ко мне и произносит страшным шепотом по-армянски:
— Парьки!
Я понимаю, что делаю что-то не так, но до прояснения обстановки или хотя бы перевода прекращаю съемку и замираю на всякий случай. Парень отрывается от бинокля и вскидывает винтовку. Я не выдерживаю — вот кадр! Успеваю щелкнуть два раза. Боец орет на меня в голос:
— Парьки! Парьки! — и наконец понятно так, по-русски: — Ложись, е... твою мать!!! — и тут же стреляет.
Я плюхаюсь на живот и сползаю по крутому мокрому склону. В эту же секунду в то место, где только что была моя голова, врезается пуля. Боец раз за разом стреляет в кого-то, кто находится за моей спиной. Из-за других камней тоже начинается стрельба. Фидаины, о присутствии которых я и не подозревал, спасая меня, открывают буквально ураганный огонь. Под его прикрытием я успеваю переползти через гребень и спрятаться в расщелину.
Интеллигентный Саркисян материт меня на всех языках, какие знает, а потом объясняет, что я сорвал им засаду, которую они устроили на пути проникновения диверсионного отряда. А боец своими выстрелами меня спас, да еще подстрелил снайпера, в свою очередь сидевшего в засаде на его отряд. Так что нет худа без добра, но позицию придется менять. Выдав эту длинную тираду, на прощанье он дарит мне исковерканную пулю, которая очень даже могла быть в моей голове.
Возвращаюсь я с гор почти в полной темноте один под звездами. Вечером сильно холодает, но трясет меня не от холода, а от близко пролетевшей смерти...
...Съемка получилась великолепная, и в ожидании самолета на Москву я сижу в ереванском аэропорту. Вдруг по радио сообщают, что в соседней Грузии ночью произошло землетрясение, есть разрушения, погибли люди. И я понимаю, что все внимание газет и телевидения сейчас направлено на Грузию. Все мои три дня блужданий по армянским горам, вся съемка летят «псу под хвост»...
В аэропорту Еревана я срочно меняю билет и лечу вместо Москвы — в Тбилиси... Но это уже другая история...
Обреченная крепость
Как выясняется, я совершенно не умею врать. Конечно, пытаюсь научиться, что-то придумываю, но меня поймать на вранье никакого труда не составляет.
Сборы в командировку, как правило, занимают не более получаса. Основное — смена белья, зубная паста, мыло, щетка, бритвенные принадлежности укладываются в день и час приезда из предыдущей командировки. Остается только проверить заряд батарей, смахнуть пыль с объективов и тщательно уложить камеру в двойной полиэтилен и в кофр с мягкими стенками.
Жена грустно наблюдает за сборами, но молчит. Это молчание хуже крика, истерик или обид. Возникает какой-то комплекс вины. Виноват в том, что где-то идет война и люди убивают друг друга. Виноват в том, что твой долг, твоя профессия опять отрывают тебя от дома. Пытаешься как можно дольше сохранять семью в неведении относительно цели командировки.
Сегодня я придумываю, что мы «едем в Прибалтику». Зачем туда ехать, когда война идет совсем в другом месте, в Нагорном Карабахе, мне и самому не ясно. Вроде бы снимать какой-то рекламный сюжет. На большее фантазии не хватает. Жена кивает, соглашаясь: «Это, наверное, здорово, снимать рекламу в Прибалтике, а не войну в Карабахе...», но грусть из глаз не уходит.
Звонит телефон:
— Машина будет через полчаса, самолет — через полтора, спускайся...— слышу в трубке голос шефа бюро. Прикидываю, что вполне успеваю перекусить. Когда, где и что удастся поесть, неизвестно.
В авиации, как и во всей стране, все в одночасье становится жутким дефицитом, поэтому в относительно коротких полетах, как Москва — Баку, в самолетах не кормят, предпочитая загружать вместо еды лишних пассажиров. Быстро ем что-то, не ощущая вкуса. В голове каша из аккредитаций, вертолетов, гостиниц, возможности добраться от Баку до линии фронта...
Из паутины размышлений вырывает голос жены:
— А где вы там жить будете?
— Первую ночь в «Азербайджане», а потом в «Агдам» переберемся...
— «Азербайджан», «Агдам»... Что-то я не помню в Риге таких гостиниц...
— Новые, наверное... — спохватившись, быстро пытаюсь я исправить «прокол».
— Да не ври... — махнув рукой, как-то устало говорит жена. — В Карабах ты летишь... Звони хоть, не пропадай надолго...
В горле стоит комок. Все она знает, чувствует. Ведь после предыдущей поездки минуло всего три дня. Только вчера вечером прошла простуда и восстановился голос. Еще потряхивает слабость от сбитой «радикальными» средствами температуры. И вот снова из сухой, морозной Москвы нужно лететь в промозглую зиму Азербайджана...
Аэропорт Домодедово — второе, после агентства, рабочее место. Отсюда — десятки полетов в воюющий Таджикистан. Внуково — война в Грузии, потом — Абхазия. Кажется, совсем недавно из Внуково летали на отдых в Гагру. «О, море в Гаграх!...» Но на отдых летали раз в год, а на войну — каждую неделю...
Вообще полеты в «горячие точки» — это настоящее испытание характера и способностей к выживанию. И конечно, не в последнюю очередь здесь, как нигде, нужно какое-то сумасшедшее везение. Мне во всяком случае везло — не было ни одного за многие годы «прокола». Улетал в нужном направлении всегда и садился на тот самолет, на который хотел. Как это удавалось, сейчас вспомнить невозможно, но каждый раз выручала хорошая реакция... и умение безоглядно импровизировать...
Известны имена-отчества начальников аэропортов, всех начальников смен, диспетчеров по «брони», кассиров, дежурных по «залу официальных делегаций» и «Интуристу»... В каждый полет на войну они провожают, как в последний раз, а через неделю-другую удивленно снова встречают твою надоевшую физиономию:
— Вы же неделю назад улетели?..
— Да! И снова лечу...
— Но ведь через нас не возвращались?
— Вернулся с попутным самолетом пограничников в Чкаловский...
— И как вас дома терпят?
— Сам удивляюсь...
...В «Интуристе» завалы аппаратуры и разноязыкий говор. Несколько телевизионщиков, радиорепортеров, фотографы образуют в центре зала небольшой «монбланчик» из кофров с аппаратурой, едой, одеждой. Каски, бронежилеты, рюкзаки, сумки, чемоданы и чемоданчики...
Посадка в самолет напоминает кадры взятия Зимнего Дворца в фильме «Ленин в Октябре». Трап под напором толпы прогибается и скрипит. В итоге летим как в трамвае. Так и хочется спросить: «На следующей — выходите?..»
...Между азербайджанской Нахичеванской областью и собственно Азербайджаном зажата маленькая Армения — Айастан, «Страна камней». А в самом сердце Азербайджана, оформившегося как независимое самостоятельное государство в 1989 году, самопровозгласилась Армянская Нагорно-Карабахская республика (НКР), Арцах. По-армянски — «Солнечный лес».
Азербайджанцы, естественно, с существованием такого государства на своей территории не соглашаются, и мы приезжаем в Агдам в разгар полномасштабной войны с использованием ракет «Алазань», «Град», пушек и танков...
Об Агдаме, довольно большом, почти сорокатысячном азербайджанском городе, раньше было известно только по этикеткам гнусного портвейна «Агдам», который выпускался на местном коньячном заводе. Не приходилось мне, правда, слышать и о хорошем азербайджанском коньяке...
...В Агдам мы с журналистами разных агентств и изданий приезжаем далеко за полночь, на вторые сутки пути, и размещаемся на самом верхнем, четвертом этаже гостиницы, которая является как бы визитной карточкой города и называется так же — «Агдам». Но, странное дело, в совершенно переполненной гостинице весь верхний этаж остается практически свободным. Нас сегодня это вполне устраивает — не нужно далеко тянуть провода для спутниковой тарелки. Но остается какой-то червячок сомнения — с чего бы это? Поскольку мы приезжаем очень поздно, почти под утро, разбираться некогда, на сон остается совсем немного времени.
Пробуждение происходит мгновенно: на рассвете громовой, крякающий разрыв ракеты «Алазань», какие-то истошные вопли в коридоре, вой сирены за окном — сбрасывают с кровати почище будильника. В комнате холодно и дымно. Окно чуть приоткрыто. Видимо, по приезде я его открыл, чтобы выпустить застоявшийся воздух, да так и заснул.
Сильно и кисло пахнет взрывчаткой... За окном, совсем рядом, дымится расщепленный ствол карагача. Ракета совсем немного промахивается мимо плоской крыши гостиницы и разрывается в стволе дерева. Других залпов, к счастью, не слышно... Мы все в доли секунды выскакиваем в коридор. Оказывается, весь верхний этаж гостиницы забит российскими и иностранными журналистами. Решаю проверить свои ночные сомнения. Вертикальная лестница на чердак и крышу — тут же, на площадке нашего этажа. Поднимаюсь по ней и открываю люк.
Просторный чердак четырехэтажного здания накрыт шатром из проржавевшего кровельного железа, сквозь которое просматривается небо. Железо кое-как, на «живую нитку», набито на реденькие доски обрешетки, прибитой к стропилам. Двойной слой подгнивших досок нашего потолка с трудом удерживает тонкий слой керамзита, который служит здесь утеплителем. Другой защиты от непогоды, а тем более от обстрела нет. И тут становится понятно, почему, при всей переполненности гостиницы беженцами, на верхний этаж никто не хочет селиться. Междуэтажные бетонные перекрытия от «Алазани» и «Града» спасут, а потолок самого верхнего этажа, который при желании можно проткнуть и пальцем, спасет разве что от дождя. Поэтому верхний, самый беззащитный этаж может быть заселен только глупыми иностранцами да беспечными российскими журналистами. Одни по причине своего фатализма — «А вдруг не попадут!», другие в надежде на русское «авось» — могут послужить прикрытием для коренных жителей. Такой вот симбиоз.
* * *
На азербайджанской стороне война выглядит как-то трагичнее, чем на армянской. Это ни в коем случае ни упрек одной стороне, ни комплимент — другой. И сравнение это на первый взгляд выглядит кощунственно. Но когда побываешь на одной и той же линии фронта, но с разных сторон, невольно начинаешь сравнивать. И сравнение это не в пользу азербайджанцев... Здесь царит настроение какой-то обреченности.
Армянские бойцы выглядят предпочтительнее: выправкой, вооружением, какой-то веселой и бесшабашной лихостью, с которой они воюют... Хотя, казалось бы, какая разница? Жители одного села, одной долины, но настрой совершенно другой. Идет это не от сознания своей правоты или неправоты противника...
Может быть, разница религий? Армяне — христианское сообщество в окружении мусульман, и верят в загробное Царство Небесное, а азербайджанцы — мусульмане, но на своего Аллаха не очень-то надеются? Как знать?
Основные бойцы со стороны Азербайджана принадлежат к Народному фронту. Но в Народном фронте состоят не особенно религиозные люди. Начертав на своих знаменах демократические лозунги, они как-то отошли от религии. И воюют исключительно за территории, а не за идеи. А вот какие движущие силы подливают маслица в огонь войны? Ведь не вчера же были построены города и села, которые сейчас разрушаются с варварским размахом. И территории всем хватало в течение многих десятилетий. А сколько распалось за время войны смешанных браков!
...Раннее пробуждение после почти суточной дороги не способствует хорошему настроению. Невыспавшиеся и злые, запив холодной водичкой черствый кусок сыра с хлебом, выходим из гостиницы.
Грязь в зимнем Агдаме — несусветная. Жидкая и черно-коричневая, она прилипает к подошвам, обволакивая обувь. Походка у всех меняется, так как невозможно нормально ходить, имея на ногах тяжкие комья, которые никак не хотят отлипать. Их невозможно счистить или соскоблить, нужно опустить башмак в воду, лучше текущую — ручей, речку, на худой конец под кран и тихо дожидаться, пока грязь не растворится сама.
На площадь, ненадолго опустевшую сразу после взрыва, постепенно возвращаются люди. Опыт показывает, что если сразу после пристрелочного выстрела не прогремел залп, у стреляющих либо трудности с боеприпасами, что достаточно обыденно, либо поступила другая команда и появился более «лакомый» объект... Чаще — первое...
В так называемых «освободительных» войсках хронический дефицит оружия и боеприпасов. Где их берут противоборствующие стороны — «тайна сия велика есть». На вооружении — ружья и винтовки, выпущенные чуть ли не в прошлом веке. Я сам видел в руках одного из «ополченцев» трехлинейную винтовку Мосина выпуска 1903 года. В прекрасном состоянии, хорошо смазанная и вычищенная, она, может быть, и сейчас верно служит хозяину в карабахском конфликте. В ход идут и ритуальные, музейного вида кинжалы, которые вполне могут служить неплохим оружием...
Откуда берется современное вооружение, которое в основном используется в войне, — вопрос, конечно, интересный, но его изучение связано со слишком большим риском для жизни. Впрочем, это секрет полишинеля. Слишком много российских, а раньше советских войск находилось и находится в «горячих точках», слишком велики склады вооружения и слишком нищенскую оплату ратного труда предлагает служивым родное государство. И «уплывает» с воинских складов оружие и амуниция. А продав боевикам любой из противоборствующих сторон оружие или боеприпасы, начальники складов, заместители командиров по тылу и вооружению выступают в роли Иуды Искариота. Ведь проданные эти снаряды и пули потом, рано или поздно, начинают попадать в спины солдатам, которые не по своей воле попали в «горячую точку». И множатся рейсы в глубину России с «грузом 200».
Если умелец может «на коленке» «выстрогать» пистолет и даже автомат, то современный бронетранспортер он в собственном сарае не соберет. Пойдет к отцам-командирам, поплачет в жилетку, и выкатят ему вполне современную технику за «свободно конвертируемые слезы»... Но это не есть предмет нашего рассмотрения. Это — прокурору...
* * *
Скопление людей при полной возможности нового обстрела — явление неординарное, поэтому все журналисты подтягиваются к толпе и встают поодаль этакой яркой экзотической стайкой на фоне мрачноватой толпы местных жителей. Люди посматривают на сыто и нарядно выглядящих журналистов с откровенной враждебностью......
* * *
У Агдамской мечети — множество народа. На фоне зимы и серой погоды особенно ярко светит голая лампочка под навесом. Вокруг толпятся люди. Здесь расположился своеобразный морг. Два старика-добровольца готовят «в последний путь» тех, кто пал в этой «народно-освободительной» войне. Зачем и кому понадобилось срывать крестьян с полей, рабочих от станков, чтобы они закончили свой земной путь под этим самодельным навесом?
Старики работают почти круглосуточно, как работает и смертный конвейер, превращая молодых, цветущих мужчин и женщин в безгласные, хладные трупы. Молодая, совсем недавно красивая черноволосая женщина. Осколок гранаты или снаряда превратил тонкие иконописные черты правой стороны ее лица в кровавую кашу, слева — лицо уцелело и по какой-то нелепой случайности даже не запачкано ни грязью, ни кровью. Смертельная бледность окрасила черты неземной красотой... Ниже груди тело словно обрублено неровно пьяным мясником. Только немногие уцелевшие обрывки мышц и жилы да несколько клочков одежды соединяют верхнюю и нижнюю половины стройного тела...
На неструганом окровавленном «прозекторском» столе лежит обнаженный мужчина. Мускулистый торс сделал бы честь любому культуристу. Нога чуть полусогнута в колене. Молодое, прекрасное даже в смерти тело. Оно напоминает рисунки Микеланджело к одной из его великих картин, только оно... без головы. Круглые плечи заканчиваются обрубком шеи. В огромной разверстой ране видны розовая гортань и ярко белеющий осколок шейного позвонка... Крик родственников, опознавших главу семьи по наколке на руке...
Буднично и почти бесстрастно происходит действо. Приходит очередная машина, буднично сваливает трупы, в которые превращаются участники очередного боя, и уезжает за новой партией. Старики укладывают покойников на самодельные прозекторские столы, обмывают их и укладывают в гробы. Они громоздятся огромным штабелем здесь же, у стен мечети... Самые выдержанные из родственников, опознавшие своего, подгоняют транспорт и забирают покойного. Спустя несколько часов этот гроб в окружении безутешных родственников появляется в городском сквере, чтобы уйти под землю уже навсегда.
Наверное, в памяти навеки останутся этот морг при мечети и эти старики, которые день за днем делают свою скорбную работу...
Из азербайджанского Агдама хода на городское кладбище нет. Оно находится за городом, и ехать нужно в сторону села Аскеран, которое в основном населено армянами. Дорога простреливается, как простреливается и само кладбище. В самом начале конфликта делались упорные попытки хоронить убитых именно там, но похороны принесли новых покойников из числа провожавших... и было решено проводить их прямо в аллеях городского сквера.
Сквер, который стал последним пристанищем многих сотен погибших в этой совершенно безумной войне, расположен в самом центре города. Все газоны и аллеи сквера тесно покрыты аккуратными свежими могильными холмиками. Подъезжает машина с гробом. Часть родственников уже стоят возле готовой могилы. Старший мужчина в семье, глубокий старик с почерневшим от горя лицом, обрамленным реденькой, ослепительно белой бородой, обводит взглядом собравшихся:
— А Гасан? Где Гасан?
— Мы его позавчера похоронили... — тихо откликается из толпы нежный женский голосок...
— Ах, да! А Лейла где? Внуки?
— Погибли вчера под обстрелом... Мы еще не можем дом раскопать... — откликается другой, уже мужской голос.
Старик неожиданно слабеет и, как подкошенный, падает на холм выброшенной из могилы земли. Гремя оружием, к нему подбегают двое похожих мужчин, видимо, сыновья, поднимают и сажают на заботливо подставленный стул. Стулья, табуреты, лавки и лавочки разбросаны и расставлены в сквере во множестве. После похорон хозяина сиротеет и мебель... Глаза братьев недобро блестят, то ли от сдерживаемых слез, то ли от множества бессонных ночей. На щеках многодневная щетина, автоматы, которые они повесили на плечи стволами вниз, как охотничьи ружья, поблескивают сильно потертыми прикладами...
Как только старик садится, женщины, словно по команде, начинают «плач»... Возможно, этот процесс оплакивания умершего или погибшего родственника называется как-то иначе... Несколько женщин разных возрастов кричат и ногтями расцарапывают себе лица, сдирая кожу со лба и щек. Из-под ногтей брызгами разлетается кровь... Я точно знаю, что начинают церемонию профессиональные «плакальщицы», но спустя одну-две минуты этот крик окровавленных, потерявших кормильца женщин остается единственным звуком в окружающем пространстве.
Камера дрожит в руке. Видимо, процесс оплакивания чем-то сродни массовому психозу, потому что уже десятки женщин заходятся в безумном крике. От этого крика дрожит каждая жилка в теле, откликаясь на чужое горе, которое вот так, внезапно, стало твоим. И, несмотря ни на какую закалку, сердце начинает давать сбои, а глаза застилают слезы...
* * *
Когда-то Агдам, «районный центр республиканского подчинения», был довольно многолюдным и многонациональным городом — почти 40 тысяч жителей. Война сильно уменьшила население, и некогда веселый, зеленый город, где основным градообразующим предприятием был коньячный завод, стал прифронтовым. За территорию, ведущую в сторону армянского селения Аскеран, хода нет. На перекрестке стоят два автоматчика и никого из журналистов не пропускают на «передовую».
К перекрестку подходят телеоператор Коля Шишков и фотограф французского агентства «Франс Пресс» — Миша Евстафьев. Они с интересом рассматривают некоторое время кучку журналистов, предпринявших было попытку пройти на «передовую» и теперь стоящих под дулом автомата. Часовой видит их, но они на другой стороне дороги, и он делает вежливый приглашающий жест... Журналисты отрицательно качают головой. Покинуть уже задержанных часовой не решается, так как штатские репортеры не очень-то слушаются команд военных и могут тут же разбежаться.
Николай с Мишей делают такой приветственный знак всем собравшимся на дороге, включая часового, и быстрым шагом отправляются в сторону передовой... Часовой от волнения даже забывает русский язык и кричит им вслед что-то по-азербайджански. На эти крики репортеры даже не поворачивают головы. И тогда часовой, забыв, что в руках у него автомат, поднимает с дороги камень и запускает его вслед тающим вдалеке фигурам... Впрочем, не попадает...
Рация в руках у автоматчика что-то хрипит по-азербайджански. Парень, которому журналисты уже осточертели, говорит:
— Пропустить я вас не могу, но могу познакомить с батальоном «отцов»... На это разрешение получено.
— Каких «отцов»?
— Увидите сами...
Как правило, темы, предложенные командованием любого уровня и любой армии, отличаются ура-патриотизмом и к истинному положению вещей в этой армии не имеют никакого отношения. Абсолютное большинство из собравшихся разочарованно машет рукой, но повторить нахальный прорыв Евстафьева с Шишковым не решаются. Кто знает, что там еще нахрипело командование по рации? Пулю в спину — и виноватых нет. Часовой охраняет вверенный ему пост...
Поскольку все журналисты отправились искать темы в другие части города, я остаюсь на дороге в одиночестве. Разочарованный часовой проникается уважением к оставшемуся и говорит:
— Идти-то недалеко. Батальон вот он, рядом. В сельхозучилище... — и показывает на строения, возле которых мы провели почти полдня.
— Расскажи подробнее. Что за батальон «отцов»?
— Здесь собрались те люди, у которых в этой войне погибли дети...
...Дорога огибает обширную территорию сельскохозяйственного училища. Из-за забора выглядывают проржавевшие останки комбайнов, сеялок. Тракторы пошли на запасные части и тоже бесприютно ржавеют остовами на всей территории бывшего мирного учебного заведения.
В воротах стоит обшарпанный, явно побывавший в боях бронетранспортер с яркой надписью белой краской «Бахадур». Пошевеливая дулом крупнокалиберного пулемета, словно принюхиваясь, стоит он, загораживая ворота от проходящих и приходящих. Чтобы войти в ворота, нужно протискиваться бочком между створками и огромными колесами БТРа. За воротами — пост с часовым. Это, пожалуй, единственная встреченная мной на азербайджанской территории воинская часть, где все, от командира до рядового, похожи на солдат хоть немного. Единственно, чем выделяются солдаты этой части от других — возрастом. Не редкость среди бойцов и командиров седина... Практически все солдаты этой части в возрасте от сорока лет и выше. Этакое подразделение «пенсионеров». Однако по тревоге все собираются быстро и воюют отменно. Говорят, что за голову их командира армяне готовы выложить кругленькую сумму. Но часть существует уже несколько месяцев, и пока никто за «вознаграждением» не явился.
Два бронетранспортера, которые были в боях отбиты у армянских «фидаинов», командир отряда назвал именами своих погибших сыновей. Один из них и охраняет расположение части. Батальон «стариков» — наиболее боеспособная часть из всех тех, кто воюет на этом участке противостояния.
Мы протискиваемся в узенький проход между бортом транспортера и створкой ворот. Под навесом на скамеечках, предназначенных для лекций на открытом воздухе, сидят почтенные аксакалы. Среди них — невысокий сухощавый человек в военной форме без знаков различия. Он говорит негромко, но убедительно. Старики в чалмах согласно кивают.
— Вот этот — командир. Фамилия его — Ризоев... А мне нужно на пост... — Часовой исчезает.
— Ассалам алейкум! — подхожу я к собранию...
— Алейкум ассалам! — откликаются нестройно. Пристраиваюсь в ожидании на краешке скамейки и жду, когда закончится их разговор...
Ожидание затягивается. Наконец старики встают и по очереди подходят к командиру, обмениваясь с ним рукопожатием. Почтительно распрощавшись со стариками, он поворачивается ко мне, и я невольно вздрагиваю. Лицо командира страшно изуродовано. Вся правая сторона покрыта ужасными шрамами и рубцами. Рубцы захватили веко правого глаза, и этот глаз, выкаченный и неподвижный, постоянно смотрит в одну точку. Видит ли он — непонятно, но впечатление пугающее. Часть шрамов прикрыта недавно отпущенной седой бородой. Я хочу взять у него интервью, но показывать столь изуродованное лицо в телекомпании не принято, и мы ограничиваемся приватным разговором...
Поскольку я нахожусь в одной из первых поездок в зону карабахского конфликта, а попросту войны между двумя прежде союзными республиками, мне крайне интересно, что надеются получить от войны ее рядовые участники.
С руководителями — все понятно. Им война выгодна, как бы она ни шла и чем бы она ни кончилась. Война — это неразбериха, неконтролируемые потоки денег, это перспективы захвата территорий, дотации и кредиты на послевоенное восстановление, это в конце концов — власть... Война выгодна всем, кроме ее непосредственных участников, жителей воюющей республики...
— Сын? — показываю я на «именной» БТР.
Командир молча усаживается на скамью напротив, через стол. Кивает на второй БТР:
— А это — второй сын... Оба погибли...
— С чего все началось?
— Что «все»?
— Вся эта война?
— А все армяне виноваты... — говорит осиротевший отец зло и с напором. — Не я начинал эту войну...
— Вот я и хочу понять, кто все это начал?
— А вот они... — взглядывает Ризоев на телевизор, который стоит в мрачноватой комнате. На экране — президент Азербайджана Аяз Муталипов. Звука мне на улице не слышно, видно только резко и карикатурно мелькающую фигурку. Несколько бойцов, сидя в тени, в комнате, внимательно слушают выступление...
— Почему мы вынуждены уйти со своей земли? — Ризоев почему-то спрашивает меня, журналиста. — Мы потеряли сыновей, мы потеряли свои дома... Вы к нам приехали. А я вас даже накормить не могу, у меня ничего нет...
Сидящие у телевизора начинают оглядываться, и вскоре я уже окружен десятком вооруженных пожилых людей. Страсти начинают накаляться... Пытаюсь перехватить инициативу:
— А кто мне расскажет, с чего все началось?
— Все знаем, все расскажем... Вы знаете, какие они...
— Кто «они»?
— Все армяне... Они мечтают о Великой Армении от моря до моря... Сейчас они с нами воюют, а потом будут и с вами воевать...
(На армянской стороне мне говорили слово в слово то же самое. О Великом Азербайджане, о мусульманском поясе. И тоже — очень убедительно и доказательно...)
— С кем с «нами»?
— С русскими. Они и вас с Кавказа выгонят...
— Вообще-то я работаю для американской телекомпании...
Но лучше бы я этого не говорил. Каким-то образом в батальоне стало известно об открытии американского посольства в Ереване, и я оказываюсь виноватым в поддержке Америкой армян в карабахской войне...
— А вы знаете, что армяне наших 200 тысяч убили? Они все города и деревни переименовали, чтобы и память не осталась, а там могилы наших предков...
Интервью явно не получается. Нужно срочно что-то предпринимать. Во всяком случае постараться уйти хотя бы целым из этого батальона. В таких случаях нужно или срочно менять тему разговора, или поддержать собеседника, который явно ждет и жаждет спора. Я соглашаюсь:
— Хорошо... Вы не могли бы сказать мне все то же самое, только под камеру?
— Сниматься не буду! — категорически отказывается Ризоев.
Но я уже вцепляюсь в него клещом:
— Как это так? Вот вы мне рассказываете интереснейшие факты, сведения, о которых, может быть, не знает мир. Так кто может мне все это рассказать под камеру?
Я быстро разворачиваю штатив, достаю и укрепляю камеру... Вот уже она включена. Собеседников, которые разгорячились в приватной беседе, вид камеры повергает в оцепенение. Куда бы ни поворачивался объектив, там сразу возникает пустое пространство... Тема разговора и моя мнимая вина за карабахскую войну забыты начисто.
Ризоев подходит и говорит примирительно:
— Ладно, погорячился я. Но что мы, крестьяне, можем сказать? Поезжайте лучше в штаб, там говорунов много, они вам все расскажут... Муса, отвези корреспондента в штаб и быстро возвращайся....
Ревет мотор именного БТРа, освобождая для проезда ворота. На зеленом «жигуле» без номеров, явно каком-то трофейном, вместе с Мусой и командиром мы отправляемся в штаб...
...У здания Дома культуры, где расположился штаб, днем клубится толпа, в основном состоящая из беженцев-азербайджанцев, которые имели несчастье жить в городах и селах, граничащих с Нагорно-Карабахской республикой. В окне Дома культуры выставлен телевизор, который кто-то невидимый снаружи включает только в те моменты, когда передаются азербайджанские выпуски новостей... Ближе к вечеру новости перемежаются какой-то «мыльной оперой», передаваемой из Турции. Ее, как правило, смотрят женщины, проливая слезы над страданиями «мыльного» персонажа, позабыв на время о своих бедах...
Посредине большого, почти 18-миллионного (?) мусульманского Азербайджана образовался маленький воинственный островок, который населяют чуть больше 150 тысяч жителей армян, исповедующих христианство. Этот «островок» начинает расширять свои границы за счет прилегающих азербайджанских сел. Раньше все эти границы существовали только на картах и обозначались как административные. В этих границах и на этих картах как, оказалось, была заложена бомба огромной разрушительной силы.
На 27 километрах дороги между Агдамом и Шушей, где проживает большинство азербайджанцев, села чередуются. Сначала село Аскеран, где большинство армяне. Дальше — Ходжалы, населенное в основном азербайджанцами. Еще дальше — азербайджанский город-крепость Шуша, господствующий над долиной, в которой раскинулась столица самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах — Степанакерт. Десятилетиями, веками армянские христиане жили бок о бок с азербайджанскими мусульманами. Трагические и кровавые страницы истории этих народов, казалось, были закрыты навсегда...
Но грянула перестройка... Интересы лидеров стран переплелись в сложнейший узел, который решили, не мудрствуя лукаво, попросту разрубить...
В комнате агдамского штаба — множество народа. Воздух наполнен почти осязаемыми клубами табачного дыма. Шум и крик почти на грани восприятия. Усилься еще немножко этот шум, и посыплются стекла, обрушится штукатурка и вообще произойдет что-то ужасное. И оно происходит. На столе у командира, представителя президента Азербайджана Эльшана Тагиева, оживает рация. Сквозь шум, вой и треск помех в комнату врывается знакомый голос:
— Как слышите меня? Прием...
Несмотря на множество народа, в штабе мгновенно устанавливается тишина, нарушаемая только этой хрипящей рацией.
— Село окружено. Отовсюду стреляют... Здесь примерно три с половиной тысячи человек мирных жителей... Нет продуктов, нет воды, и кругом стрельба...
У Тагиева сжимаются кулаки:
— Чем мы можем помочь?
— А чем вы поможете? Нужно, чтобы вы хотя бы знали, что происходит... Сейчас у нас уже три человека ранены. Один — тяжело. Двое — убиты... Это те, кого я вижу. Разрушено 35 домов, практически все село... Вы уже ничего не успеете...
Все собравшиеся в штабе люди, а это сильные мужчины, опускают глаза. Сознание своей полной беспомощности угнетает. Все понимают, что это голос коменданта села Ходжалы Рашида Мамедова и эта рация — последняя ниточка, связывающая жителей обреченного села с миром живых. Но вот обрывается и она. Голос замолкает...
...Только позавчера мы виделись с Мамедовым здесь, в этом же штабе. Он приехал за продуктами для окруженного села и почти три недели ожидал возможности уехать. Наконец дождался. Раньше в это, сейчас окруженное армянскими боевиками, село Ходжалы невдалеке от Степанакерта из Агдама летал вертолет. А еще раньше, до войны, ходил обычный пассажирский автобус, и доехать не торопясь можно было за полчаса. Сейчас это расстояние измеряется многими человеческими жизнями погибших в этой войне...
Все долго молчат и напряженно вслушиваются в треск, который передает рация... Но голос в эфире так и не появляется. Никогда...
...Штаб Народного фронта отличается от воинского разве что меньшим формализмом при представлении да тем, что расположен в частном доме. Возле него множество разных автомашин, которыми запружена вся улица. Автомашины идентификации не поддаются, так как на них нет номеров, и за руль садятся все кому не лень.
Из просторного бетонированного двора нужно преодолеть три ступеньки вниз, и попадаешь в длинную комнату-веранду, в которой топятся две печки-коптилки. Справа тянется огромное, почти во всю стену, окно с множеством рам. Слева на веранду выходят пять или шесть дверей, ведущих во внутренние помещения дома. Раньше дом принадлежал зажиточному армянину, как утверждают, «цеховику».
— Все равно этот дом подлежит конфискации по приговору суда... — выносит молва свой строгий и неправый суд. Поверх закрытой застекленной веранды вдоль всего дома идет веранда открытая, с бетонированным полом и армированными бетонными плитами перекрытий. Поэтому народ на закрытой веранде, несмотря на застекленную стену, чувствует себя в достаточной безопасности от ракет.
Мы приходим в штаб Народного фронта, чтобы выехать из опостылевшего Агдама в легендарный город-крепость Шушу. До него от Агдама всего-навсего около 20 километров, то есть расстояние даже для медлительного автобуса плевое...
Невысокий и кудрявый Тахмасиб Новрузлу похож больше не на азербайджанца, а на какого-нибудь выходца из Центральной России. Круглое веснушчатое лицо и серые глаза выделяют его из толпы черноволосых и темнолицых местных жителей. Кроме того, говорит он по-русски совершенно без акцента и прекрасно знает историю своего народа. Видимо, весь этот набор качеств позволил ему стать редактором местной газеты Народного фронта «Ана торпас» — «Родная земля».
Редакторский кабинет в штабе выходит прямо на веранду, забитую людьми. Никаких приемных и секретарей нет. И мы сидим с ним за кружками густого, горячего и черного чая.
Тахмасиб говорит:
— Тебя интересует история конфликта? Начало — где-то далеко в глубине веков, сейчас трудно вспомнить... Но в 1987 году армяне Нагорного Карабаха решили присоединиться к Армении... Вот, смотри карту... Нагорный Карабах не имеет даже общей границы с Арменией. Как можно было присоединяться? Только согнать с места тысячи семей азербайджанцев... И сейчас идет война за территории... а результат ты сам видишь. Почти 200 тысяч азербайджанцев, которые проживали на территории Армении, изгнаны из своих домов... Только в одном Агдаме сейчас собрались почти 40 тысяч беженцев из сел, граничащих с Нагорным Карабахом... Завтра поедем в Шушу, сам посмотришь. Но ехать придется долго...
— Почему долго? — показываю на коротенькое расстояние на карте, разделяющее Агдам и Шушу.
— Напрямую не проедем... Уже в Аскеране — армянские боевики и ни одного азербайджанца... Ехать придется окружным путем, а это — почти пятьсот километров...
В открытую дверь вливается многоголосый гул множества разговоров. Нам это не мешает, словно журчание водопада. Вдруг с веранды доносится грохот выстрела и короткий вскрик. На какое-то время воцаряется молчание, а потом крики множества голосов словно выносят нашу дверь.
Тахмасиб вылетает на веранду. Я опасливо двигаюсь следом. Что там произошло — неизвестно, но звук выстрела и шмелиное жужжание пули невозможно спутать ни с чем. Толпа, которая сидела на полу и скамейках, равномерно распределившись по веранде, сейчас собралась в одной ее части. Все одновременно кричат по-азербайджански, поэтому понять ничего невозможно... Выставив, на всякий случай, камеру, пробираюсь в толпе к центру.
— Разрешите! Извините! Минуточку! — раздвигаю толпу включенной камерой.
Возле печки-капельницы с несчастным лицом сидит один из бойцов. Из формы ему досталась только камуфляжная куртка, которую он украсил какими-то нашивками и аксельбантами в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Он держится за окровавленную ногу. Кровь сочится сквозь пальцы из раны чуть ниже колена.
Отброшенный почти под самую печку, на полу лежит автомат без магазина, всякие тряпочки, баночки с маслом и шомпола. Похоже, парень решил почистить неразряженный автомат и поплатился легким ранением. Но я же слышал выстрел и жужжание пули!
В моем кофре — небольшая аптечка. Ничего лишнего, только те лекарства и перевязочные материалы, что необходимы в «горячей точке». Сам я этой аптечкой почти не пользуюсь. Так, изредка, когда возникает головная боль от переутомления или недосыпа, да изредка желудочные таблетки. Но сколько раз эта аптечка выручала моих друзей и коллег...
Немного перекиси водорода и чуточку спирта на ватке — и ранка уже чистая. Я беру стерильную салфетку и ... нащупываю рукой пулю прямо под кожей, совсем недалеко от входного отверстия.
— Потерпишь? — спрашиваю солдатика.
Он поспешно кивает, но лицо, бледное до синевы, говорит, что он на грани обморока. Тахмасиб выступает в роли ассистента. Он наливает несколько капель нашатыря на носовой платок и подносит к носу раненого...
Пока мальчишка уворачивается от едко пахнущего платка, я успеваю пальцами захватить кусочек кожи вместе с пулей.
— А-а! — вскрикивает раненый, но теплый окровавленный кусочек металла уже у меня на ладони. Он сильно деформирован... Однако видно, что это пуля со смещенным центром тяжести. При выстреле она срикошетила от трубы, по которой к печке подается солярка, оставив на ней сверкающий след, затем ушла в потолок и, задев его, вернулась к «автору» неосторожного выстрела. От рикошетов она потеряла скорость и убойную силу, поэтому парень так легко отделался. Вообще такое бывает раз в столетие. Автоматная пуля сработала как бумеранг...
— Всем встать! Выходи строиться! — командует Тахмасиб. Неохотно и ворча люди покидают теплые насиженные места. Через несколько минут во дворе стоит неровный строй. Автоматы у всех по-разному, как кому удобно. Один, держа его рукой за ствол, кладет на плечо, второй вешает на левое плечо стволом вниз, словно охотничье ружье. Один из «вояк» вовсе держит автомат в руке за плечевой ремень, и от этого оружие почти касается земли.
— Душераздирающее зрелище! — бормочет командир и резко кричит: — На пле-е-чо!
Автоматы размещаются на плечах стоящих в строю людей как Бог на душу положит. Тахмасиб проходит вдоль строя, проверяя оружие. У абсолютного большинства патроны находятся в патронниках, несмотря на то, что автоматы вроде бы разряжены и магазины отстегнуты...
— Странно, что вы тут все друг друга не перестреляли! — ворчит командир, передергивая затворы и выбрасывая патроны из патронников...
Мы возвращаемся в комнату к прерванной беседе:
— Я думаю, что из этих крестьян, земледельцев войско мы сделать не сумеем... Одна надежда — на переговоры...
... Ранним утром, задолго до рассвета, к гостинице подходит небольшой автобус. По договоренности с командованием мы едем в Шушу...
— Бешеному кобелю сто верст — не крюк... — ворчит кто-то из журналистов, залезая в промерзший салон.
— Не сто, а примерно пятьсот... — вежливо поправляет его Тахмасиб, который становится гидом журналистской группы во время этой поездки.
— Да тут двадцать километров по прямой дороге...
— Не всякая прямая ведет прямо к цели...— наставительно замечает наш сопровождающий. — Все устроились?
— Поехали...
Автобус начинает трястись, потом простуженно чихает, выпускает клуб черного дыма и, наконец, трогается. Окна от нашего дыхания покрываются сначала морозным туманом, а потом и вовсе обрастают мохнатым инеем, отгораживая нас от окружающего пространства. Более или менее видно только водителю. Лобовое стекло по углам тоже обрастает инеем, но тепло, идущее от двигателя, не дает ему обледенеть окончательно.
— Почему такой мороз? Ведь мы же в южной республике...
— А вы не принимаете во внимание высоту? Мы уже в километре над уровнем моря. Дальше будет еще выше... Так что морозы и в тридцать градусов для нас — не редкость...
В лобовое стекло далеко видна заснеженная равнина. В боковые стекла, закрытые колючими кристаллами инея, не видно ничего.
Время от времени автобус останавливается, и в салон вваливаются заснеженные вооруженные люди. Они еще и еще раз придирчиво проверяют документы... Проверив, удивленно цокают языками, а узнав, что мы едем в далекую от здешних мест Шушу, смотрят на нас с сочувствием, как на тихопомешанных... Наступает солнечное утро, но солнце, выйдя из-за горизонта, прячется в полупрозрачную мглу, как в шубу, и подсвечивает нам окна, играя лучами на кристалликах льда. Потом солнце скрывается, и уже под покровом темноты мы какими-то боковыми дорожками выезжаем в Лачинское ущелье...
Заснеженный Лачин — это уже считанные километры до границы Нагорного Карабаха. Крутой горной дорогой мы приезжаем в село, которое раскидывается по обе стороны глубокого ущелья с крутыми склонами. Вокруг — черные скалы, на которых даже не держится снег. Звездное небо над головой и белая пелена под ногами. Кажется, что белизна чистого снега сама источает свет, поэтому идти по нему вслед за нашим провожатым не представляет никакого труда...
Водитель автобуса находит единственную в округе ровную площадку и пытается пристроить автобус для ночлега... Ночевка предусмотрена в Лачинском районном отделе милиции. Журналисты смеются:
— Будем ночевать, как преступники, в камерах... Или в обезьяннике...
— В общем, в клетках...
— А что, гостиницы нет?
— Ничего тут нет, сами увидите утром. Лачин — это же небольшое село и расположено в горном ущелье...
...Вдруг откуда-то из темноты резко трещат автоматные выстрелы. От этого треска иней слетает с проводов и в воздухе возникает маленькая пурга. Из здания, как впоследствии оказалось, Лачинского райотдела милиции, сгустками темноты бегут люди, стреляя длинными очередями. Мы оказываемся между двух огней...
Сделав три прыжка обратно к автобусу, я падаю у двойного заднего колеса. В такой мгле съемка бесполезна, на пленке будут только едва различимые полоски трассеров и венчики выстрелов. Сейчас нужно думать не о съемке, а о том, как не попасть под пулю... Одинокий стрелок замолкает. То ли его убивают, то ли он сам решает ретироваться от превосходящих сил. Лежу еще некоторое время, пока наши защитники проверяют склоны ущелья. Довольно скоро они возвращаются, держа в руках мешок:
— Вот, нашли под опорой линии электропередачи...
— Как здорово, — бормочу я, — не успели приехать, как словно по заказу героическая операция со стрельбой, но без жертв и с хорошим трофеем...
Когда мы входим в освещенную прихожую райотдела, становится видно, что обычный солдатский вещмешок, в просторечии «сидор», наполнен красными, похожими на мыло, аккуратно сложенными толовыми брикетами, а поверх них кольцами уложен белый бикфордов шнур...
В отдельном мешочке, упакованные в вату, лежат блестящие детонаторы...
Встретивший нас подполковник присвистывает:
— Ничего себе! Тут килограммов десять одного тола... Наверное, ЛЭП хотели взорвать, да ваш приезд помешал...
Словно отвечая на мои не очень-то лестные для него мысли, он говорит:
— Как будто по заказу, журналисты приезжают, а тут — диверсант... Армяне на нашу ЛЭП давно охотятся. Она не только Лачину свет и тепло дает, но и Шуше... Она здесь совсем недалеко...
Окна райотдела надежно закрыты плотными шторами и заклеены черной бумагой, похожей на ту, из которой делают светонепроницаемые пакеты для фотопленки... В коридорах снят пол и на лаги наложены толстые доски, по которым, балансируя, ходят сотрудники. Мы проходим в кабинет начальника, так же, как и все, балансируя и перепрыгивая с доски на доску.
— Что случилось? Почему пол разобран?..
— Да мы намеревались отремонтировать здание, но началась война, стало не до ремонта... Идите чай пить.
Мы сидим в кабинете, освещенном только настольной лампой на руководящем столе.
— Эта дорога — единственный путь, по которому можно попасть в Шушу... Город держится только потому, что находится на неприступной горе и существует эта дорога — Лачинская трасса... Ночевать вам здесь опасно, поедете в Шушу... Я вам дам в сопровождение автоматчиков и БТР, так что прорветесь...
— Не нужно нам сопровождение...— возражаем мы, — никто наш автобус не тронет. По Международной конвенции...
Договорить нам не дают. Упоминание о Международной конвенции вызывает у милиционеров взрыв искреннего веселья.
— Вас сначала расстреляют, а потом будут выяснять, кто вы такие... Ночью все кошки серы... Конечно, они потом будут себя в грудь бить или, наоборот, скажут, что вас азербайджанцы расстреляли... Нет уж! — решает подполковник, — поедете с сопровождением, ребята потом вернутся...
Рисковать людьми нам очень не хочется. На милицейском «уазике» и стареньком БТРе милиционерам предстоит рискованный путь ночью по обледенелой горной дороге в Шушу и обратно под прицелом карабахских снайперов... Однако делать нечего, приходится подчиниться. Местные милиционеры свои порядки знают лучше...
Пока мы пьем чай, милицейский «уазик» и автобус уже разогреваются и стоят на улице «под парами». Мы собираем свои вещички и вновь лезем в промороженное чрево автобуса.
Эта ночная поездка по горам врезается в память на всю оставшуюся жизнь. Автобус на лысой резине опасно скользит и ерзает на дороге. Начинается снег, и перед фарами пляшут огромные снежинки. Сквозь это мельтешение еле видны красные габаритные огни идущего впереди синего «уазика». Время от времени он включает милицейскую синюю «мигалку». Бронетранспортер завести так и не смогли, поэтому он с половиной людей из сопровождения остался в райотделе.
В общем, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги»...
Идущую впереди машину бросает по скользкой дороге почти так же, как наш автобус. Но если сквозь замерзшие боковые стекла нам не видно, где находится стена, а где пропасть, то маневры легковушки с милиционерами нам видны хорошо, и они оживленно комментируются в автобусе...
Дорогу нам осложняет не только снег, превративший ее в каток, но и постоянные осыпи, которые приходится объезжать, чуть не вися колесами над пропастью, дна которой не видно в темноте, но, по уверениям местных жителей, оно недалеко — в 300-400 метрах ниже уровня дороги.
— Нам хватит, — решаем мы.
Наконец последний поворот, и мы останавливаемся у шлагбаума. С обоих его концов дорога перегорожена противотанковыми ежами, которые мы видели разве только в кино про оборону Москвы. Облепленные снегом ополченцы, как они себя назвали, проверяют документы, и мы въезжаем в Шушу... Время — далеко за полночь. Милиционеры о чем-то совещаются с часовыми и, сделав лихой разворот перед шлагбаумом, растворяются в метели. Они едут обратно в Лачин...
Мы остаемся в Шуше. Вернее, не в самом городе, а на ближних подступах к нему. Возле шлагбаума — вагончик, в котором топится докрасна раскаленная печка-«буржуйка». За колченогим столом сидит сильно небритый ополченец и яростно крутит ручку телефона. К сожалению, никто к телефону на другом конце провода не подходит, поэтому «крутеж» продолжается минут пятнадцать. За это время мы успеваем замерзнуть и вновь согреться...
Наконец ополченец от кого-то получает команду, и автобус проезжает шлагбаум, направляясь в город. После короткой дороги мы выезжаем на небольшую пустынную площадь, окруженную административными зданиями. Площадь освещена редкими фонарями, которые, словно ореолом, окутаны освещенными снежинками. Между зданиями под тяжестью снега склоняются к земле мохнатые лапы стройных елей. Картинка святочная.
Автобус подъезжает к трехэтажной гостинице. Здесь нас уже ждут. Открывается дверь, и закутанная во множество одежек фигура появляется на пороге.
— Заходите, только у нас не топят и в комнатах холодно...
Мы заходим в гостиницу. Фигура, оказавшаяся девочкой, почти подростком, выдает нам все ключи от всех комнат сразу и говорит:
— Я не знаю, как вы думаете там ночевать...
— Ничего, мы привычные...
Я поднимаюсь на второй этаж и одним из ключей открываю комнату и включаю свет. Стандартный гостиничный номер. Койка, тумбочка, встроенный шкаф. Справа, сразу у двери — умывальник. На кране висит капелька воды чистоты необыкновенной. Комната как комната...
Пытаюсь снять куртку и тут замечаю, что температура в комнате значительно ниже, чем на улице. Благодаря фонарям и падающему снегу улица за окном кажется даже теплой... Мороз в комнате градусов 20, не меньше. Все-таки снимаю куртку и сажусь на кровать. Ночевка в этой гостинице грозит обыкновенным замерзанием... Капля, висящая на кране, давно стала кусочком льда и отзывается на прикосновение колючим холодом...
Подхватив вещи, выхожу в коридор. Все мои коллеги уже покидают свои комнаты, направляясь в вестибюль гостиницы.
— Я же предупреждала, — смеется маленькая хозяйка этого ледяного дома. — Вы думаете, что гостиница была бы пустая, если бы не холод? В городе тысячи беженцев...
Мы в растерянности. Время — почти три часа ночи. Почти сутки в промерзшем автобусе высосали из нас все силы. Необходимо отдохнуть хотя бы пару часов...
Тахмасиб, который всю дорогу вел себя достаточно скромно и помалкивал при всех наших разговорах, подает голос:
— Тут единственное теплое место — кабинет главы администрации...
Нам уже все равно — кабинет так кабинет. Мы идем через площадь, напоминая колонну французов, разбитых Кутузовым на Березине... Хорошо еще, что площадь небольшая...
Здание администрации района закрыто. Мы тихо звереем. Раздаются даже призывы ломать дверь, ведь она преграждает нам путь к заветному теплу. Никакой грохот на обитателей здания не действует...
Наконец, закутанный во множество курток и платков, перед нами возникает ангел в лице маленькой хозяйки гостиницы:
— Чего же вы ключ-то не взяли?
— Какой ключ?
— Вот от этой двери... Глава администрации так и думал, что вы ночевать в гостинице не захотите, и оставил мне ключи от входной двери и от кабинета. Кабинет на втором этаже... Только можно я с вами посижу, а то в гостинице я совсем замерзла?
— Какой разговор...
Через секунду дверь распахнута и... заботливо прикрыта. Мы поднимаемся на второй этаж и находим дверь кабинета главы администрации.
Письменный стол, стол для совещаний и — о, счастье — в углу топится печь-капельница. В кабинете тепло и необыкновенно уютно. Мы рассаживаемся вокруг стола все, как были, в куртках и шарфах... Поверить в тепло никто уже не может.
Я нахально беру подшивку газет и расстилаю тонкий бумажный слой на полу под столом для совещаний. Мысль простая — под столом никто не наступит во сне. Укладываюсь на жесткое ложе, накрываюсь сверху курткой, а под голову вместо подушки — кофр с аппаратурой. Секунда — и проваливаюсь в теплую черноту...
Пробуждение было кошмарным. Открываю глаза в полумраке и вижу вокруг только ноги. Одни обуты в валенки с галошами, другие — в сапоги. Гулко звучит какой-то голос, который кого-то ругает по-азербайджански... Ноги вокруг меня образуют совершенно непреодолимую загородку. Светящийся циферблат часов показывает 10-34. Никак не пойму — утра или вечера?
Наконец потихоньку собираю в одну кучку все разбросанные мной ночью вещи и осторожно стучу по ближайшей ко мне коленке. Человек, которому она принадлежит, вскрикивает в испуге и вскакивает, образуя брешь в окружающем меня частоколе ног. Я выбираюсь из-под стола. В кабинете полным ходом идет совещание. Журналистов давно нет, а вокруг стола сидят военные и гражданские люди, которые одинаково изумленными глазами наблюдают за появлением на сцене нового действующего лица. Немая сцена...
— Извините! Я сейчас... — достаю из-под стола все свои вещи и потихоньку двигаюсь к выходу из кабинета. Хозяин кабинета Мансур Мамедов, обращаясь ко мне, что-то спрашивает по-азербайджански. Естественно, я его не понимаю и вежливо переспрашиваю:
— Если можно, все то же самое, только по-русски?
— Вы из той группы, что к нам ночью приехала...
— Конечно, — отвечаю я. — Как бы иначе я под ваш стол попал? Тут где-нибудь можно умыться?
— Вода есть только для питья...
Я беспрепятственно покидаю кабинет. Закрыв дверь, я слышу какие-то реплики и громовой хохот. В конце концов выхожу на заснеженную площадь. Перед зданием администрации стоит огромная взбудораженная толпа... Мое появление встречается каким-то судорожным вздохом...
Подхожу к ближайшей елке и снегом, налипшим на ее ветвях, протираю лицо. Такое пусть примитивное умывание слегка бодрит, и я окончательно просыпаюсь...
Коллеги уже давно работают в толпе...
Пока мы спали, за эту ночь армяне все-таки взорвали две опоры линии электропередачи и водозаборную станцию... Город остался без воды и света...
Я покидаю площадь, на которой стоит толпа примерно в 3-4 тысячи человек, и решаю пройти по городу. Снег кончается, выглядывает позднее солнце, и улицы Шуши, припорошенные сверкающим покрывалом, приобретают неправдоподобно сияющий вид, но только если не замечать чернеющих кое-где развалин и людей, впряженных в санки с водой и дровами.
Вместе со мной идет и Тахмасиб. Напарник совсем не лишний, если учесть, что он отлично знает язык и имеет автомат. Мы направляемся к краю города, туда, где над долиной нависает старинная крепость.
— Стой! Кто идет? — в азербайджанском варианте звучит не менее грозно, тем более что требование подкреплено лязгом передернутого затвора. Тахмасиб мгновенно скатывается в какую-то ложбинку и начинает лихорадочно пристегивать к автомату рожок. Как всегда в подобных ситуациях, рожок пристегиваться никак не желает и, выскользнув из его рук, съезжает мне под ноги по скользкой тропинке. Я послушно поднимаю руки:
— Журналисты! — кричу как можно громче.
— А почему с автоматом? — резонный вопрос звучит из-за кучки заснеженных камней.
— Это сопровождающий из Народного фронта!
— Журналист, подходи медленно, а Народный фронт лежи где лежишь... Но не двигайся...
Меня выручает висящая на груди камера с мощным телеобъективом, через который я намеревался поснимать долину... Так что моя принадлежность к журналистскому цеху не вызывает сомнений у двоих пацанов в маскировочных костюмах, сделанных из явно простынного материала. Кое-где на костюмах видны характерные вышитые рюшечки. Мальчишки составляют первую цепь боевого охранения.
Они внимательно и придирчиво проверяют документы, потом кричат моему напарнику:
— Автомат оставь, а сам поднимайся и медленно иди к нам...
— Как это оставь!? — обижается Тахмасиб.
— Он что, правда из Народного фронта?
— Правда! — подтверждаю я. — Даже главный редактор газеты...
— Ладно! Иди с автоматом! Сейчас старшего позовем...
Один из мальчишек быстро растворяется в снежной пелене, а второй, забыв уже о своих функциях охранника и часового, с интересом рассматривает камеру. Мы ее включаем, наводим на разные объекты, и камера неизменно правильно наводит на фокус.
Приходит начальник караула:
— Зачем вы к нам пришли?
— Старинную крепость посмотреть... Где она?
— Да тут, перед вами...
Ночной снегопад выбелил старинные камни, и вся крепость, облепленная снегом, обледеневшая, словно замаскировалась под снежным саваном. Башни с узкими бойницами, древние стены. Они частично обрушились от времени, и современники продлили им жизнь обычным красным кирпичом.
— Осторожнее ходите, из долины стреляют снайперы...
Пригнувшись, мы совершаем короткий бросок и оказываемся под стенами крепости, которая не одно столетие служила защитой людям...
Выглянув в бойницу, я как на ладони вижу распластавшийся в долине Степанакерт... Вот это позиция! В мощный объектив видно, как по заснеженным улочкам города, точно так же, как и в Шуше, бредут люди с санками, на которых такие же бидоны с водой и вязанки дров...
Как хорошо быть генералом
Точка на карте определена, аккредитации получены, вроде и страховка в кармане. Правда, при взгляде на сумму, в которую Родина оценила твою единственную жизнь, хочется и плакать, и смеяться. Суммы страховки хватит разве только на гвозди, которыми, если что случится, будут приколачивать крышку твоего гроба. Но прочь черные мысли — мы идем на съемку.
Чтобы попасть в автобус с беженцами, которые возвращаются из Еревана в родные места — в Степанакерт, нужно сначала отыскать в Ереване комитет «Карабах», запастись информацией и пропуском. На другое утро необходимо суметь втиснуться в переполненный автобус, а там уже можно рассчитывать только на удачу.
Если простые граждане относятся к журналистам нормально и спустя короткое время готовы поделиться с тобой последним куском лепешки, то начальники относятся к снимающей братии с понятной настороженностью.
...Все эти «автобусные» мысли заканчиваются в Горисе. Здесь начинается так называемый «лачинский коридор».
...Красная гостиница на горке снаружи выглядит лучше, чем изнутри. Сломанные кровати, отсутствие воды, загаженные до предела комнаты. И при всем этом бешеные цены. Для тех, кто платит.
Если денег нет, пускают переночевать и так. Постояльцы приносят с собой бутылки, наполненные водой из речки или далекой колонки. Шофер автобуса предупреждает, что стартуем в пять часов утра...
Ночевка в этой гостинице вспоминается как кошмарный сон. Утром, чуть рассветает, с большим облегчением покидаю жуткое пристанище и бегу к автобусу, умываясь на ходу из припасенной бутылки. Автобус только подъехал, и пассажиры, в основном женщины с детьми, понемногу начинают собираться.
Из-за поворота выскакивает «Нива», раскрашенная зеленой «камуфляжной» краской. Следом в клубах пыли спешит открытый «уазик», заполненный бравыми вооруженными бородачами. Они выскакивают из машины и быстро блокируют пустую площадь, на которой стоит единственный автобус с беженцами.
Из «Нивы» неспешно выбирается небольшой круглый человек в генеральских погонах. Самое главное в его полуштатском-полувоенном одеянии — именно погоны. Кажется, даже если бы он вышел из машины совершенно голым, на это никто не обратил бы внимания, — так сияют на утреннем солнце эти замечательные, золотого шитья, генеральские погоны.
Покосившись на свои плечи, генерал смахивает с погон невидимые пылинки. В толпе беженцев раздается дружный тяжелый вздох — генерала они явно знают. Узнаю его и я. Несколько недель назад эта «Нива» и этот тогда еще совсем не генерал попадались мне на дороге из Шуши в Степанакерт.
Первая встреча не внушала оптимизма на будущее. Он видел, как я снимал мародеров... Надежда была только на то, что он забыл эти щекотливые обстоятельства.
...На волне эйфории от того, что армяне Нагорного Карабаха взяли Шушу — «неприступный» город на высокой горе, практически все население Степанакерта поголовно занялось грабежом. На семикилометровом участке дороги между городами Шуша и Степанакерт в кюветах валяются десятки холодильников и стиральных машин. Из Шуши один за другим идут грузовики, доверху заполненные нехитрым домашним скарбом.
Картина такого повального грабежа, в котором участвуют и дети, и старики, и отцы семейств, производит тягостное впечатление. Все участники действа прекрасно понимают, что занимаются непотребным делом, и либо очень болезненно и агрессивно реагируют на фотоаппараты и телекамеры, либо прячутся. Удовлетворения от съемки нет никакого. И вот — картинка: по дороге, которая в этом месте делает поворот, открывая горящий разграбленный город, на фоне колонны из четырех или пяти грузовиков, груженных домашним имуществом, дверями и рамами, идет семья — папа, мама и четверо детей.
Папа толкает большую тачку, загруженную какой-то одеждой. Поверх одежды боком лежит холодильник «Минск». Следом — мама катит детскую коляску. Коляска забита посудой — тарелками, кастрюлями. Такое впечатление, что тарелки собрали после пикника или обеда, а помыть не успели.
За мамой идет девочка лет тринадцати-пятнадцати, сгибаясь под двумя связанными за ручки вафельными полотенцами огромными чемоданами. Еще один такой чемодан у мальчика лет двенадцати. Он явно очень устал и тянет тяжелый чемодан волоком по пыльной дороге. Еще одна девочка лет десяти обхватила огромный узел штор и скатертей. Как она видит дорогу — совершенно непонятно.
Завершает процессию мальчонка лет четырех-пяти, который на ходу воюет с двумя трехметровыми алюминиевыми гардинами. Вероятно, в начале пути гардины были связаны вместе, но потом распались. Гардины то волокутся по земле, оставляя на пыли извилистый след, то перетягивают мальчишку вперед и не пускают, упираясь в землю. Снимая эту семью, я прохожу с ней почти километр.
Прошел бы, наверное, и дальше, если бы не зеленая «Нива». Собственно, увлекшись съемкой и разговором с главой семейства, «Ниву» я вижу, только когда она останавливается. Раздавшийся из машины начальственный рык приказывает прекратить съемку.
Смотрю на машину и, не увидев в ее обитателе ничего достойного внимания, кроме, пожалуй, руководящего баса, недвусмысленно машу рукой, посылая подальше и «Ниву», и ее пассажира.
Наши пути расходятся. Я направляюсь в Степанакерт, где работаю еще два дня. По ходу работы беру интервью у президента Нагорно-Карабахской республики Георгия Петросяна. По завершении интервью прошу у него выписать мне пропуск — разрешение на съемку на территории НКР.
На половинке листа с эмблемой НКР президент Петросян собственной рукой пишет разрешение снимать без ограничений где угодно: на боевых позициях, на постах, в общем, я получаю так называемый пропуск-вездеход. Положив его в бумажник к остальным документам, через какое-то время просто забываю о нем...
...Встреча с владельцем зеленой «Нивы» в Горисе никак не стыкуется с моими планами. Кроме того, он окружен до зубов вооруженными фидаинами, готовыми открыть огонь по мановению его толстого пальца. Генерал равнодушно оглядывает толпу, и вдруг глаза его хищно загораются. Я вижу, что он не забыл ничего.
Рука его тянется к пистолету, а толпа, частью которой я был только что, расступившись, словно выталкивает меня, с ужасом глядя на этого генерала.
— Ваши документы? — подходит он ко мне.
— Пожалуйста! — достаю американскую карточку. — А вот пропуск комитета «Карабах»...
На американскую аккредитацию он смотрит с почтением. На этот момент прошли считанные недели после открытия в Ереване американского посольства...
Правую руку с пистолета он снимает. Это обнадеживает. Охрана тоже немножко расслабляется. Стоит передо мной, маленький и важный, перекатываясь с носков на пятки. На лице отражается мучительная умственная деятельность...
Говорит тихо, «со значением»:
— Увижу в Карабахе, лично пристрелю!
Поворачивается к охране: «Поехали!»
«Нива» и охрана скрываются в тучах пыли...
...«Лачинский коридор» назван по имени небольшого азербайджанского городка Лачин, расположенного на крутых склонах гор. После некоторого размышления, ехать ли в Нагорный Карабах после столь «многообещающего» начала, вдруг вспоминаю о пропуске-вездеходе, написанном президентом. Лихорадочные поиски — и я нахожу волшебную бумажку.
Выхожу из автобуса в Лачине. В доме на косогоре — какие-то военного вида люди. Время от времени откуда-то доносятся автоматные очереди. Позеленевший лицом от бессонной ночи, часовой невнимательно смотрит документы, пропускает на территорию бывшего Лачинского райкома КПСС.
Прямо под облезлым памятником Ленину набросаны матрасы в розовую полоску. Сидя на этих матрасах, чернобородые бойцы, работая сноровисто и точно, набивают патронами автоматные рожки. В волосах и бородах запуталась солома. На фотоаппарат и видеокамеру они демонстративно не обращают внимания, но поглядывают краем глаза, нравится ли репортерам то, что они делают. Достаточно ли мужественный у них вид.
Десять часов утра. Я, если считать раннее пробуждение, в работе уже шесть часов. Не мешало бы пообедать. Запасы еды, сделанные еще в Москве, розданы детям беженцев и кончаются задолго до Гориса. Правда, с водой нет проблем, хрустальная речка бежит тут же под косогором.
Но удача от меня не отворачивается. Поднявшись на базу фидаинов, обнаруживаю заспанных коллег, фотографов Гену Хамельянина и Андрея Соловьева. После ночевки в каком-то стогу, они с ног до головы в клочьях соломы. Обоюдная радость неподдельна.
Когда встречаешь где-нибудь в «горячей точке» коллегу, появляется этакое двойственное чувство. На первом месте, конечно, радость. Вот он — чертушка, жив, здоров и весел. После первой радости встречи появляется что-то сродни ревности.
Если он попал раньше, то где побывал, что снял? Успел ли отправить в «контору» пленку?.. Конкуренция... Правда, дальше уколов смешной ревности дело не идет. Фотографы и телеоператоры «горячих точек», работающие на конкурирующие агентства, без колебаний отдают своим соперникам отснятые пленки, чтобы скорей доставить их по назначению.
Работая в «Ассошиэйтед Пресс», я множество раз привозил в Москву пленки фотографов «Рейтер», «Сипа пресс», «ИТАР-ТАСС» и РИА «Новости». Наверное, руководители агентств знают это, но пресекать «порочную» практику не пытаются...
«Нет духа сильнее товарищества...»
...Андрей и Гена делятся со мной скудной едой. На завтрак у них, а для меня обед — самая «здоровая» в мире пища, в тончайший лаваш завернута какая-то трава. Подозреваю, что это первая травка с ближайшего косогора, но меня уверяют, что это... тут произносятся какие-то армянские слова, и я начинаю верить в фантастически целебные свойства предложенной мне еды. Другой-то все равно нет.
И тут у меня окончательно портится аппетит. Полусонный часовой резко просыпается, вытягивается в струнку и отдает честь, а во двор, громко и противно скрипя по камням, вкатывается... зеленая «Нива». Следом пылит машина все с той же охраной. Особого оживления в стане фидаинов не происходит. Золотые генеральские погоны на них не действуют, и они только обозначают приветствие, не отрываясь от скудной трапезы.
Генерал кривится и направляется ко мне, на ходу вытаскивая пистолет из кобуры. Пистолет за что-то там зацепляется и никак не хочет покидать уютную кобуру. Набрав в легкие побольше воздуха, я чуть не бегу навстречу генералу. Не ровен час, стрельнет и не увидит президентской записки.
— Минуточку, минуточку, вам письмо...
— Ка-к-к-кое письмо? — Генерал даже заикается от моей наглости. — Я тебе что сказал? Лично расстреляю... Вот и пришло твое время...
— Что, и письмо от собственного президента не прочтете? Расстрелять-то никогда не поздно...
Аккуратно и бережно достаю пропуск. Мелькает предательски трусливая мыслишка: а вдруг президента переизбрали или генерал — в стане оппозиции. Но бумажка производит желаемый эффект. Генерал теряет дар речи. Он, словно рыба на берегу, молча открывает и закрывает рот. Я жду дальнейшую реакцию.
И тут происходит чудо мимикрии — генерал улыбается:
— Что ж вы раньше-то не сказали? — в голосе масло пополам с елеем. И куда девается руководящий рык? Оборачивается к помощнику: — Дальше ты поедешь с охраной, а журналист поедет со мной. Вам куда нужно?
— Вообще-то в Степанакерт...
— Садитесь, садитесь, довезем вас прямо до места. С удобствами...
Такси на Геташен
Уютный город Ереван освещен каким-то розовато-желтым светом. Солнце отражается в зданиях, сложенных из древнего камня, которому миллионы лет. Если приглядеться, то на срезах камня видны следы улиток, живших в незапамятные времена на дне моря. Своими домиками-ракушками они дали жизнь и кров людям.
Мне почему-то хочется думать, что любая жизнь не проходит бесследно. Что у каждого живого существа есть пусть не душа, а какая-то энергетическая субстанция, которая со смертью живого организма переходит в новое качество, сливается с себе подобными и образует над земной поверхностью защитный слой, прикрывающий жизнь на Земле от внешнего зла. Ученые ошибочно называют этот слой «озоновым»...
Так вот, сплошным этот слой бывает над странами и континентами, где жизнь спокойна и размеренна, над конфликтными точками слой истончается, жизнь, прерванная насильственно, не пополняет, а губит этот слой, и в нем образуются дыры, через которые в наш мир попадает вселенское зло...
Может быть, это покажется смешным, но такие мысли приходят мне в голову на улице Еревана, когда я ищу способ добраться в Нагорный Карабах. Стандартный способ — идти в комитет «Карабах», брать оттуда бумажку, потом с этой бумажкой на автобусе или попутной машине ехать в Степанакерт, отмечаться в местном КГБ, согласовывая с ними все свои действия и передвижения. В этом стандартном случае ты полностью лишен свободы маневра и зависишь от гостеприимства и доброй воли хозяев. Ехать на своей машине — чревато. Рискуешь остаться и без машины, и без головы.
Вообще я стараюсь, чтобы в такого рода командировках у меня не было ничего такого, что бы бросалось в глаза и вызывало желание завладеть этой вещью. Если одежда, то чистая, но ношенная, если обувь, то такая, которая продается везде, обычные китайские кроссовки. Если аппаратура, то вид у нее такой, что она вот-вот развалится. Даже карманный фонарик и тот с треснутым стеклом, заклеенным прозрачным скотчем.
Не факт, что вокруг тебя исключительно бескорыстные борцы «за идею» или «за свободу». Абсолютное большинство воюющих, иногда даже сами того не сознавая, борются за определенные материальные и моральные выгоды. Самая опасная категория этих «борцов» та, что взяла в руки оружие ради возможности безнаказанно грабить и убивать: «Война все спишет!» Убийство — ради самого убийства... Я видел людей, получающих удовольствие от вида беспомощной жертвы, от сознания своей власти над ней, от сознания того, что его действия отнимают жизнь. В эти моменты он в собственных глазах уподобляется Богу...
Война страшна не только и не столько жертвами и разрушениями, которые она несет. Она страшна еще и разложением, которое она оставляет в наследство живущим. Общеизвестно, что после войны отмечается резкий рост преступности в воюющих сторонах, резкое падение нравственности всех без исключения слоев населения. Поколение, которое вырастает в лихие годы, — потерянное поколение. Оно научилось убивать, но никто — ни семья, ни окружение не учили его создавать, трудно и тяжко работать. И с окончанием боевых действий его личная война продолжается. Он делает то, чему его учили, что он умеет лучше всего...
... Такси в Ереване — это отдельная песня. Водители разномастных машин разной степени изношенности предлагают отвезти тебя туда, куда тебе нужно, за весьма умеренную плату. Но, узнав, что мне нужно в Нагорный Карабах, присвистывают и отказываются. Наконец находится таксист, невысокий мужичок, с неизменной улыбкой на круглом лице, по имени — что «удивительно» в Армении — Армен.
— Нужно взять побольше горючего — там заправляться негде. Мы куда поедем? В Степанакерт?
— По всему Карабаху. Но сначала в Степанакерт...
— Нет проблем. Поехали. Машина новая, две недели как получил...
— Договорились. Сейчас в гостиницу за вещами — и двинули...
— Вы идите в гостиницу, а я сейчас поеду за горючим. Возьму с запасом...
Через час заправленная «под завязку» и загруженная канистрами желтая машина с шашечками стоит под окном гостиницы. Я торжественно вручаю Армену американскую белую бейсболку с огромными красными буквами — CNN... Он тут же снимает с головы свою неизменную кепку-аэродром и гордо надевает символ принадлежности к международному журналистскому сообществу. (Все пять дней командировки он эту бейсболку так и не снимал, по-моему, даже спал в ней.)
Мы едем в комитет «Карабах» для получения пропуска и аккредитации. Познакомиться с «комитетчиками» нам не удается — комитет закрыт. Стоим почти час возле двери с карабахским гербом, на котором гордый орел с короной распластывает крылья. Но на кончиках крыльев я замечаю какие-то наросты, очень напоминающие винтовочную или автоматную мушку.
Не дождавшись хозяев, мы покидаем теплый уютный город и устремляемся в неизвестность.
Спустя пять часов непрерывной езды живописная дорога приводит нас в бывший азербайджанский городок Лачин. Словно сочувствуя нам, солнце заходит за облачко, и в ущелье мгновенно становится сыро, холодно и неуютно. Ветер свистит в пустых глазницах окон и дверных проемах, закручивает вокруг придорожного столба оборванные провода. Безлюдье и запах гари. Этот запах въедается в нас и провожает по всей многокилометровой длине Лачинского коридора. На склонах гор уже начинают обрушиваться террасы, на которых вместо виноградных лоз растет бурьян. Некогда возделанные поколениями тружеников клочки полей приходят в запустение. Для этих террас плодородную землю носили корзинами на собственных плечах отцы и деды тех, кто теперь изгнан со своей земли.
Не важно, какому богу молились эти люди. Их мир был в этой долине. Они не строили глобальных планов передела мира или переноса границ. Те, кто вынашивал эти планы, по-прежнему сидят в кабинетах с кондиционерами и отправляют своих детей на отдых и на учебу подальше от войны и неустройства. Развалины Лачина служат сейчас пристанищем только бездомным собакам, которые не захотели уйти с родного пепелища.
Провожаемые заунывным свистом ветра, мы проезжаем весь городок и только на подъеме, на выходе из города встречаем первых людей. Молодые, хорошо вооруженные ребята, почти мальчишки, несут здесь караульную службу.
Они старательно проверяют все документы, долго расспрашивают о цели приезда, а потом, убедившись, что имеют дело не с азербайджанским или турецким шпионом, с удовольствием фотографируются, облепив старенькую боевую машину пехоты. Потом приглашают нас к столу. Пытаюсь навести их на разговор о будущем этого края. Но далеко они не заглядывают, связывая свою судьбу с судьбой своей маленькой республики. Действительно, по московским меркам, 150 тысяч — это население всего одного небольшого «спального» района Москвы. Но тут другие критерии... Республика имеет свой Верховный Совет, свою очень боеспособную и закаленную в боях армию, своего президента и претендует на статус субъекта международного права.
Когда-то целью армян Нагорного Карабаха было соединиться с метрополией, стать частью не мусульманского Азербайджана, а христианской Армении. С этого начинается вооруженная борьба. Но по ходу этой, казалось бы, безнадежной войны приоритеты меняются, и республика, живущая по законам военного коммунизма, хочет иметь свой голос в хоре мирового сообщества.
Эти мальчишки с оружием — будущее республики, которое она бросила в горнило войны. Самые лучшие и самые смелые погибнут... Но сейчас, наполненные жизнью, они себе кажутся бессмертными.
Вкуснейший лаваш и жиденький, но очень острый и пряный супчик — меню на сегодня. Большие алюминиевые миски заполняются так, что слой супа едва прикрывает донышко, но зато горячих, ароматных лепешек — от пуза.
Мы проводим с ребятами на посту чуть больше часа, но расставаться уже жаль. Ради таких теплых, душевных встреч стоит заниматься журналистикой. Сейчас, вспоминая этих ребят, я просматриваю видеокадры. Большая часть этих мальчишек погибает в бессмысленной, но кровопролитной войне.
Конечно, есть повод упрекнуть автора в пацифизме. Идет война, народно-освободительная. Идет противостояние двух миров и двух религий — ислама и христианства... Можно сказать, маленькая республика принимает на себя первый удар панисламизма.
Но автор упреков не принимает. Есть страны, целые континенты, в которых мирно уживаются люди не одной, не двух — десятка религий и вер. Но законы там таковы, что представителю ни одной религии даже в голову не придет навязывать свою веру соседу или претендовать на его территорию. Видя такой образец сосуществования, хочется, чтобы и под нашим небом мусульманин спокойно читал Коран, а христианин — Библию, а работать они могли бы вместе. И не важно, какие это будут дела: выращивание винограда на склонах гор или строительство космических ракет...
Еще несколько поворотов на головокружительном горном «серпантине», и мы въезжаем в легендарный город Шуша. Здесь почему-то название города произносят как «Шуши». Город памятник, город-музей под открытым небом производит тягостное впечатление. Большая часть домов разрушена и разорена. Из квартир вынесено все: проводка, электророзетки, вырваны даже рамы и дверные коробки. В некоторых домах живут люди, и на улицах встречаются редкие прохожие. Они изумленным взглядом провожают кокетливо-желтую «Волгу» с шашечками по борту. Что-что, а такси они видели в последний раз очень давно, в своей прошлой, довоенной жизни.
Начинает смеркаться, и мы вынуждены покинуть Шушу, чтобы до конца рабочего дня успеть отметиться в администрации Нагорно-Карабахской республики. Сотрудники местного УНБ (Управления национальной безопасности) — ребята строгие, шутить не любят и шуток не понимают. Для них существует только один вопрос: жить или не жить. И вероятность нарваться на пулю ночью для нас многократно возрастает.
Ехать в Карабах на «частнике» было бы проще и, пожалуй, немного дешевле. Но приехать на войну на «такси», чисто гражданской машине с шашечками, — в этом было что-то... Расчет оправдывается. Мне очень помогает фактор неожиданности и нежданности появления такой машины на фронте.
К зданию администрации мы подъезжаем уже в полной темноте. Когда машина притормаживает у парадного входа, из-за дверей выглядывает совершенно обалдевший сторож в милицейской форме.
— Вы кто? Откуда?
— Вообще-то из Москвы...
— Что, из Москвы? На такси?
Армен хохочет:
— Да нет, на такси мы едем из Еревана...
— Из самого Еревана? — продолжает изумляться милиционер. Подходит к машине и с какой-то нежностью проводит ладонью по капоту и крыше. — Ну, вы даете, ребята!!!
— Ты нам лучше подскажи, куда нам сейчас ехать, чтобы отметить прибытие в Нагорный Карабах?
— А-а! Это рядом, на соседней улице... Там такое серое здание... Это и есть УНБ...
Управление национальной безопасности формально должно быть подчинено МНБ Азербайджана, но на самом деле не подчиняется никому, кроме своего, карабахского президента. Здесь разрабатываются планы, производятся аресты, здесь свой изолятор временного содержания, который наводит ужас на всех азербайджанцев. Время уже близко к полуночи, когда я стучусь к ним в дверь. Никакой охраны не обнаруживается, и я прохожу прямо в длинный полутемный коридор, который освещается только из открытых дверей кабинетов. Пройдя несколько пустых кабинетов с разбросанными на столах какими-то бумагами, картами, прохожу в самый конец коридора. Из кабинета доносятся голоса. Поскольку дверь нараспашку, вежливо стучу по косяку.
— Кто там? — почему-то по-русски. — Заходи! Открыто!
Внял приглашению, захожу. Два стола в тесном кабинете поставлены в форме буквы «Т». Над картами склонились молодые военачальники. Увидев незнакомое лицо, удивляются:
— Вы как сюда попали?
— Так открыто же...
— А где охрана?
— Не было никакой охраны. Я постучал, дверь открылась, я и прошел. Вот, кстати, вам подарок от Московского бюро телекомпании CNN. Полный набор оттеночных и рисовальных фломастеров для того, чтобы планы красивые разрабатывали...
Кладу на стол яркие коробки. Из сумки достаю бейсболки, значки и авторучки с логотипами компании.
— Вот это подход! — восхищается старший из командиров. Поскольку знаков различия никто не имеет, я ориентируюсь только на возраст. — Пришел бы без подарков, сразу в изолятор, а так, ну как его посадишь?.. — Шутка, конечно, на грани «фола», но я, как могу, поддерживаю общее веселье.
— Извините, если что не так! — На всякий случай даю задний ход. С прежним президентом НКР мы были в достаточно коротких, дружеских отношениях. С новым руководством познакомиться еще не успел.
Старший переворачивает карту, и получается импровизированная скатерть.
— Чайку?
— С удовольствием, но я вам не помешаю?
— Мы все практически закончили. Какие проблемы?
— Для начала отметить прибытие на вашу территорию...
— Отлично. Считаем, что отметились. Что еще?
Набираюсь нахальства:
— Хотел бы побывать в одном из действующих подразделений.
— Тоже нет проблем. Вазген, захватишь завтра корреспондента с собой!
Небольшого роста, лысоватый военный кивает:
— Есть. Возьму... А что снимать хотите?
Такое в моей практике встретишь не часто. Мало того, что в течение двух минут решил все проблемы, так еще меня спрашивают, что бы я хотел снимать.
— Обычную жизнь подразделения... По возможности, никаких специальных постановок. Обед так обед, бой так бой... Что будет, то и сниму...
— Вы что, сговорились? Чешская журналистка приехала, армянский режиссер, вы, и все одинаковыми словами говорите... — чешет затылок командир. — В общем, вы по адресу попали, завтра с пяти утра едем в Геташен. У вас транспорт есть?
— Есть... — киваю на окно.
— Вот это да! — выглянув в окно и увидев машину, восхищенно цокают языками. — Такси? Настоящее?
— На нем и поеду...
— Ну, это вряд ли... Такси мы на фронт не пустим, а то вы нам противника перепугаете... Машина с водителем останутся в Геташене. Вы — один?
— Конечно...
— Что-то обеднела ваша компания? Все телевизионщики «пачками» ездят, по три-четыре человека...
— Это не от бедности, а для удобства. Один человек всегда пройдет туда, куда группу могут не пустить. Да и отвечать за людей мне не хочется... Нет, одному лучше...
— Как знаете... — пожимает плечами Вазген. — Документики, на всякий случай, покажите?
— Да ладно тебе, — говорит «старший», — я его знаю. Он у нас не первый раз... Наши ребята его даже один раз в плен брали...
— В плен? И жив остался?
— Как видишь...— смеется «старший».
Я чувствую себя крайне неловко. Так всегда себя чувствует человек, когда на свет Божий вытаскивается то, что он старательно скрывал все годы...
— Расскажи? — просит Вазген.
— Расскажу когда-нибудь... Потом...— машу я рукой. Приглядываюсь к «старшему»:
— Петька? Осипьян?
— Ну да! — подтверждает он. — Здорово, дружище! Тебя и не узнать. Сколько времени прошло?
— Да вроде немного. Четыре года всего...
— Значит, ты по-прежнему на американцев работаешь?
— А зачем менять? Эфир границ не имеет... И национальности, кстати, тоже...
— Это верно. Видел я твой репортаж тогда. Но почему-то в российских новостях. И имя автора не назвали...
— То, что имя автора не назвали, — это по моей просьбе. А что с теми азербайджанцами сталось?
— Отпустили их — тоже по твоей просьбе... На канистру бензина выменяли... А ты расскажи, как было дело? Тогда-то ты сразу улетел, и поговорить не успели...
...В памяти — зимний Агдам, который непрерывно обстреливается ракетами «Град». Большая часть ракет попадает в обычные, ничем не примечательные жилые дома. Состояние жителей — на грани паники. Легко ли жить под постоянным обстрелом, когда никто, даже стреляющие, не знают, куда полетит и где взорвется очередная ракета. Установка «залпового» огня как бы пристреливается к городу, выпуская одиночные ракеты.
Они взрываются с противным крякающим хлопком. Я никак не могу определить место очередного взрыва, и это крайне раздражает. Потому что следующий взрыв может «крякнуть» на том месте, где ты сейчас стоишь.
Народный фронт Азербайджана отряжает разведывательно-диверсионную группу, которой поручено выяснить, где находится эта установка, и, по возможности, уничтожить ее. Я увязываюсь с этой группой, не собираясь, конечно, участвовать в разведке и тем более в уничтожении. Моя цель проста — подобраться как можно ближе к «линии фронта» и снять людей, которые на ней находятся.
Позже выясняется, что нет ни линии, ни фронта. И людей «на фронте» — тоже нет. Мы гуськом пробираемся между желтыми холмами, покрытыми жухлой травой, которая хрустко ломается под ногами. Впереди — проводник, житель города Аскеран, который уверяет, что отлично знает эти места.
Проходит час за часом, но мы по-прежнему блуждаем среди одинаковых холмов. Низкие плотные облака даже не намекают, где располагается солнце. Единственная наша надежда — знание местности проводником. Судя по времени, мы уже давно прошли то расстояние, которое планировали, но к цели разведки не приблизились... Установка замолкает надолго, лишая нас даже звукового ориентира. Мы по-прежнему идем в никуда.
Долина между холмами сужается, склоны становятся круче. На них без снаряжения не подняться. Судя по растерянному лицу проводника, дорогу он теряет, но признаться в этом боится или не хочет.
Внезапно по долине разносится громовой бас:
— Всем стоять! Руки вверх! Оружие на землю... — бас гремит на языке межнационального общения — по-русски. Группа останавливается. Все, в том числе и проводник, поднимают руки.
Я на всякий случай поднимаю тоже.
— А это еще что за птица? Ты, с краю, подойди поближе... Что на тебе висит? Оружие?
— Нет, — кричу я в неизвестность. — Это аппаратура, я — журналист...
Голос, усиленный мегафоном, доносится как будто со всех сторон.
— Журналист! — снова гремит голос. — Медленно иди вперед по ущелью. Остальным стоять на месте. Вы у нас на прицеле!
Я медленно плетусь туда, куда мы и шли. Совсем близко, буквально за ближним холмом, грохочет залп «Града». Цель нашего путешествия оказывается рядом с нами, в соседней долине, но мы ее уже проходим и оказываемся в расположении армии Нагорного Карабаха. Свернув по долине вправо, как мне командует невидимый обладатель мощного баса, я оказываюсь на краю траншеи. Со склона спускается бородатый фидаин. Еще несколько человек, от которых видны только макушки в коричневых вязаных шапочках, старательно целятся в мою сторону. Видны автоматные стволы и, почему-то, внимательно прищуренные глаза.
— Шпион!? — то ли спрашивает, то ли утверждает фидаин.
— Нет, не шпион, журналист! — настаиваю я. — А вот и документы...
— Руки! — страшным голосом рычит он. — Руки не опускай — шлепнут сейчас!
— Сам тогда возьми во внутреннем кармане...
Он подробно обыскивает меня, проверяя, нет ли оружия в карманах, в рукавах и штанинах. Ничего не обнаружив, говорит:
— Теперь медленно подай мне сумку и аппаратуру. Нет, лучше поставь на землю и отойди в сторону...
Подчиняюсь, но в груди нарастает холодный комочек. Он прикасается к сердцу, которое болезненно сжимается, мешая дышать. Несмотря на холод, на лбу выступает пот. Он ледяными струйками появляется из-под шапки и стекает за воротник...
Проверив сумку и подивившись на незнакомую аппаратуру, фидаин теряет ко мне интерес:
— Поднимайся наверх, там тебя встретят...
— А снимать вас можно?
— Снимать? — он даже приостанавливается от неожиданности. — А зачем тебе снимать? Мы тебя все равно расстреляем...
Он произносит эти страшные для меня слова как-то скучно и обыденно. Я начинаю верить, что этот меня точно расстреляет и рука у него не дрогнет. Но пока я жив, нужно что-то говорить.
— Расстрелять всегда успеете. Ты же даже документы не посмотрел... — возмущенно говорю я.
— Зачем документы? Ты пришел с азербайджанской разведкой... А документы я тебе сам, какие хочешь, выпишу...
— Заберите его! — кричит он по-русски и что-то добавляет по-армянски...— Я к воякам пошел. Прикройте!
Один из фидаинов, совсем мальчишка, выходит из окопа и направляется ко мне. Я быстро иду ему навстречу и протягиваю руку:
— Привет! Корреспондент Юрий Романов. Всемирные телевизионные новости...
Он машинально подает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием. Мальчишка теряется и, оглядываясь на окоп, откуда его товарищи видят, что он «ручкается» с противником, передергивает затвор автомата:
— Иди вправо и вверх... Там — блиндаж...
Первый бородач окликает моего конвоира, и тот, указав рукой направление, куда мне надлежит идти, бежит к командиру. На какое-то время я остаюсь без присмотра и, конечно, не иду ни в какой блиндаж.
Сначала присаживаюсь на дно окопа и начинаю копаться в сумке, открывать камеру, менять пленку, протирать оптику. Некоторое время обитатели окопа следят за моими действиями, но, видя, что им ничто не угрожает, отворачиваются и начинают следить за происходящим в ущелье.
Фидаины тщательно обыскивают задержанных азербайджанцев и набирают целый арсенал разного оружия, патронов и гранат. Тем временем я встаю рядом с бойцами и выставляю над бруствером вместо автомата маленькую видеокамеру. Она работает бесшумно, и я снимаю все, что происходит в узкой лощине.
Выпотрошив им карманы, фидаины отводят пленных к противоположному от нас краю ущелья. Намерения недвусмысленные, они собираются их расстрелять. Набрав побольше воздуха, я кричу:
— Не-е-е-ет! Не нужно!!!
Бородач оборачивается:
— А-а! Про тебя-то я и забыл совсем. Иди-ка сюда!
— Иди ты, поговорить нужно...
Память услужливо включается. У меня перед глазами словно появляется листок из блокнота с записями, сделанными в прошлый приезд. Я был на армянской стороне и познакомился со многими командирами...
— Ара Абрамян знает, что я здесь! — кричу я в отчаянии.
Бородач останавливается:
— Абрамян, говоришь? — Имя министра национальной безопасности Армении производит магическое действие. Экзекуция откладывается...
Он в сомнении стоит посреди ущелья. Перед ним — семеро простившихся уже с жизнью противников и один — крикливый и нахальный, то ли противник, то ли друг, среди его бойцов с включенной видеокамерой. Наконец решается:
— Всех пленных — в сарай, под замок. А с этим будем разбираться...
Все так же, цепочкой, мы идем на окраину Аскерана. В одном из домов — штаб. Во дворе — крепкий сарай с двумя загонами и сеновалом. В одну дверь вводят всех пленных азербайджанцев, за другой — запирают меня. Аппаратуру, кофр, все содержимое карманов уносят в штаб...
Плотная дверь пропускает в щели мало света, и я сижу в темном сарае, где вкусно и терпко пахнет сеном. В дальнем углу слышится шумное дыхание и сгустком мрака ворочается корова, позвякивая колокольчиком. Помещение, в котором меня запирают, нечто вроде преддверия хлева. Относительно чистый пол, засыпанный соломой. Я обхожу свою темницу, чтобы хоть как-то сориентироваться. Справа от входной двери нащупываю ступеньки лестницы, ведущей на сеновал. Присаживаюсь на них ненадолго, чтобы обмозговать ситуацию и наметить линию поведения.
От очевидного не отопрешься. Действительно, я пришел сюда с разведгруппой, с диверсантами, можно сказать.
«Ну и что? — возражаю сам себе. — Это моя работа — показывать обе стороны в действии...»
В конце концов решаю ничего не врать. Если не знаешь, что говорить, говори правду! Ну, может быть, чуточку подкорректированную. Естественно, задачи группы мне неизвестны, на том стоять буду до посинения... Решив для себя все проблемы, забираюсь по лестнице на сеновал и устраиваю себе «окоп» в душистом сене. Через несколько мгновений усталость берет свое, и я засыпаю.
Просыпаюсь от жуткого грохота и крика:
— Куда он девался? Сбежал?
— Никуда я не сбежал. Здесь я... — подаю голос из своего укрытия. — Наверху, на сеновале...
— А ну, вниз, быстро!
В темном прямоугольнике двери толпится вооруженный народ. Бородач, пленивший меня, облегченно вздыхает.
— Тут люди из МНБ тебя ждут, а мы тебя найти не можем...— ворчит он мне в спину, пока я осторожно спускаюсь по крутой лестнице. Изумленно смотрит на меня:
— Ты что, спал?
— Спал, конечно!
— Вот это нервы!
— А при чем здесь нервы? Устал очень... — бормочу я, снимая с себя сено и пытаясь, наконец, проснуться. — Слушай, а сколько времени? Часы-то вы у меня забрали...
— Скоро семь вечера.
— Ничего себе, я уже четыре часа в плену...
В дверях возникает еще одна фигура.
— Ну, где ваш пленный? — слышу я знакомый голос.
— Петька! Ты, что ли? — неуверенно вглядываюсь в темноту.
— Привет! Конечно, я... — весело откликается фигура и хлопает меня по плечу.
Осипьян, бывший школьный учитель, преподавал ребятам историю. В годы войны стал отличным командиром. Возглавляет «направление». Что это такое, я не очень понимаю, но шишка большая.
Он приобнимает меня за плечи и ведет к штабу:
— Давно ел?
— Вообще-то давненько...
— Наслышан о твоих приключениях... Пошли обедать, за столом расскажешь...
— Рассказывать ничего не буду...— говорю я. — Ты меня знаешь...
Бородач изумленно прислушивается к разговору. Встревает:
— Командир! Дайте мне его ненадолго, запоет, как соловей...
Осипьян хмурится:
— Забудь. Я его знаю не первый день... У него другая работа. А разведка, между прочим, твое дело!
— Мы же их задержали... — возмущенно откликается бородач. — И вон какую «птицу» изловили...
— Это неизвестно, кто кого «изловил», вы его или он — вас? Ты снял, как они работают? — обращается он ко мне.
— Естественно. Мастерство не пропьешь...
— Вот видишь. Оказывается, это ему и надо было. Снял, как армянская контрразведка арестовывает разведку противника... Так что взял он вас. Голыми руками...
Бородач хмурится и обиженно сопит:
— Знал бы я, что он нас снимает, я бы его там и оставил...
— А вот это — неправильно. Сколько раз вам говорить — журналистов не трогать?
— Что у него, на лбу написано?
— Ты же его обыскал. Оружия нет, документы — на месте...
— Что я, читал эти документы? Потом бы вместе и почитали...
Меня, честно говоря, даже холодный пот опять прошибает.
— «Потом» — это когда? После расстрела?
— Конечно... — кивает бородач. — А кто у нас хорошо читает? Командиры только, а мы-то — воюем. Который год...
За годы войны сменились поколения воюющих. Сейчас за автоматы взялись те, кто никогда не сидел за партой, зато знает в совершенстве виды оружия и разобрать-собрать автомат может с закрытыми глазами. Все, что происходит в мире, для такого воина — дремучий лес. Как ему объяснить, что есть международные акты, защищающие права человека, что журналист — лицо неприкосновенное, что материнство и детство даже в боевых условиях защищается всеми конфликтующими сторонами. У него главное правило: «Убей — или сам будешь убит!»
Осипьян смеется:
— Видишь, у нас ребята простые. А с твоими провожатыми что делать?
— Отпустить, конечно... Мне же потом придется туда приезжать. Меня и спросить могут! Там тоже ребята «простые»...
— Хорошо! — говорит Петр после некоторого раздумья. — Мы их обменяем на что-нибудь или на кого-нибудь. Если так отпустим, нас поймут неправильно...
— Хорошо хоть живыми останутся...
— Ну, это пусть они тебя благодарят. А то мои ребята их там бы и кончили...
— Действительно, нравы у вас тут...
— Законы военного времени — в действии... — пожимает плечами Петр и направляется в дом. — Пошли, перекусим чем Бог послал...
Обнимая ладонями обжигающую кружку с крепчайшим чаем, я наслаждаюсь теплом и немудреным уютом.
Осипьян спрашивает:
— Ты куда сейчас направишься?
— Если не возражаешь, никуда. Здесь переночую...
— Это — само собой, а завтра? Тебя обратно отправить?
— Отсюда куда ближе — до Баку или до Еревана?
— По расстоянию — до Баку... «По уму» — до Еревана.
— В принципе, мне нужно в Москву...
— Тогда что думать? Утренним рейсом тебя и отправим из Еревана. Без проблем...
Осипьян облегченно вздыхает:
— Правильное решение. А то я сейчас пытался продумать, как тебя обратно в Агдам доставить. А раз не нужно туда — проблем меньше... Кстати, на том столе все твои вещи и документы лежат, не забудь их...
— Издеваешься?
— Да нет, просто шучу... Иди, ложись спать. Поздно уже. У меня сейчас совещание, а утром увидимся...
Утром увидеться нам не удается. Осипьяна вызывает какое-то начальство, а бородатый контрразведчик сам отправляет меня на рассвете в Ереван, откуда я благополучно возвращаюсь в Москву.
И вот новая встреча через четыре года...
— У тебя опять совещание? Это твое нормальное состояние — совещаться по ночам?
— А что делать? Суток не хватает... Ну, мы все закончили? По местам... Вазген! За моего друга отвечаешь головой...
— Чьей?
— Ну и шуточки тут у вас, — говорю я, поднимаясь со стула.
Все хохочут. Юмор, конечно, черноватый, в свете того, что я когда-то видел в агдамской мечети, но какой уж есть. Решаю не обижаться и смеюсь вместе со всеми...
Вообще, в «горячих точках» иногда спасти рассудок может только чувство юмора. Но и юмор здесь бывает, мягко говоря, своеобразный. Могут, например, сказать, что сейчас тебя расстреляют, а потом, увидев реакцию, хлопнуть по плечу и сказать, что это была шутка. Юмор такой. И над этим полагается смеяться... И если ты не готов смеяться подобным шуткам и прежде всего над собой, в «точках» тебе делать нечего...
... Утро выдается солнечное и теплое. На небе ни облачка. Мы с Вазгеном на такси отправляемся в Геташен, где стоит его танковый полк. По воинской иерархии Вазген оказывается полковником, но ходит в синей футболке с короткими рукавами и офицерских бриджах. На ногах — обычные кроссовки. Где-то далеко позади пылит его служебный «УАЗ». Он перед стартом инструктирует водителя и отправляет его в какой-то другой населенный пункт, с приказом.
Нагорный Карабах — маленькая страна. В любую точку республики можно доехать за час-полтора, поэтому мы прибываем в Геташен за час езды. Армен сразу же отправляется к водителям и заму командира полка по хозяйственной части. Он пользуется нашим коротким знакомством с начальством и быстро договаривается о том, чтобы ему заправили машину. Мы с полковником направляемся на машинный двор, где полным ходом идут ремонтные работы.
— Вот, пригнали... — вытягивается перед Вазгеном полный, круглый, как шар, начальник мастерских. Раньше здесь ремонтировали сельхозтехнику, тракторы, а сейчас двор забит танками и бронетранспортерами. Немного в стороне стоит подъемный автокран. Его стрела привязана к транспортировочным крюкам разорванным на полосы флагом Азербайджана.
— Это откуда?
— Наши разведчики из-под Агдама пригнали...— гордо рапортует толстяк.
— Отлично. С техникой у нас не очень... Отправь его в Степанакерт. А на тех, кто пригнал, напиши «представление» к награде. Я подпишу... Что из техники готово к выступлению?
— Все готово. Сейчас двигатели погоняем немного — и вперед...
Наклонившись к уху толстяка, Вазген шепчет громко:
— Завтра с утра — выступаем... В «санитарную» зону...
— Здорово... Я с «техничкой» в сопровождении буду.
— Хорошо, — кивает полковник и поворачивается ко мне: — У вас полдня свободных сегодня, а завтра, как обычно, в пять часов утра выступаем в «санитарную» зону.
Киваю с умным видом. Что такое «санитарная» зона, мне известно по Чернобылю. Какое отношение имеет это словосочетание применительно к Нагорному Карабаху? Решаю все это выяснить по ходу дела.
Не нужно спешить с расспросами. Решать проблемы лучше по мере их возникновения. Но, вот как сейчас, сделал себе мысленную пометочку «Узнать подробности!» — и жди терпеливо удобного момента. Твои расспросы наведут на подозрения, что ты либо дурак, либо шпион... А это — чревато...
Утро наступает, как по заказу, чистое и безоблачное. После ночевки на заднем сиденье моего такси ноги никак не хотят выпрямляться. Закоченевшие от ночного холода суставы, кажется, скрипят. Невдалеке от мастерских протекает чистый горный ручеек. Нагнувшись над ним, умываюсь, чищу зубы и бреюсь. Пена никак не хочет мылиться в ледяной воде, и бритва скрипит протестующе, не желая брить такую жесткую щетину.
Проделывая санитарно-гигиенические мероприятия, думаю о значении словосочетания «санитарная зона». Предположения лезут в голову всякие, а когда подходит Вазген, все разрешается довольно просто:
— Нагорный Карабах за здоровье своих людей борется. А пока азербайджанцы могли обстреливать «Лачинский коридор», по нему ездить было вредно для здоровья... Могли убить. Сейчас делаем «санитарную зону», где не будет азербайджанцев...
— На какое расстояние?
— На такое, чтобы ни из какого вида оружия ни пуля, ни снаряд, ни мина не долетели...
— Тогда это километров на 40-50 в сторону...
— Это — как получится... — ухмыляется Вазген. — Ты готов?
— Готов...
— Тогда слушай команду. С нашей колонной идет машина Карена Геворкяна, армянского режиссера. Если хочешь, можешь ехать с ним... Есть машина Петры — чешской операторши. У них группа на «Жигуле». Но там мало места... Выбирай...
Мы выходим за ворота мастерских. Улицы Геташена, небольшого армянского городка у подножия гор, забиты всевозможной военной техникой. Танки, бронетранспортеры, даже зенитная установка «Шилка», образуют внушительную колонну. Стоя на ногах в кузовах грузовиков, бойцы отряда машут руками, приглашая в свою машину. Поначалу я даже теряюсь:
— А где режиссер?
— Вот он, — Вазген подводит меня к высокому худощавому человеку в красной футболке и солдатских брюках. — Знакомьтесь!
— Карен... — тихо представляется режиссер. — Это вы на такси вчера приехали?
— Да, я...
— Интересный ход...— задумчиво произносит Карен и смотрит внимательно. Под этим взглядом я в первый момент чувствую себя несчастным пижоном, который решает выпендриться и катается на такси по разоренному войной краю.
— Нет, в самом деле хороший ход... Вы напомнили людям, что есть не только война, но и внешний мир, в котором живут без автоматов в руках... В котором ходят такси и работают рестораны. Здесь-то о мирной жизни забывать начали...
Такой поворот мне нравится больше. На самом деле этого я, конечно, не думал, когда брал такси, но мысль понравилась.
— Ну что? Договорились? — нетерпеливо спрашивает Вазген.
— Да, конечно, — кивает режиссер. — Для коллеги место всегда найдется...
— Тогда по машинам! По машинам! Поехали! Поехали!
— Наверное, поехали и мы? Давайте проедем в перед колонны? — мягко говорит Геворкян. Наши интересы совпадают, и мы быстро грузимся в зеленый «УАЗ», в просторечии называемый «буханкой».
Наш водитель, пожилой и седой, оказывается асом. Он на скорости маневрирует между тяжелой военной бронетехникой, и в считанные минуты мы вылетаем из города. Остановившись на обочине дороги и настроив камеры, мы минут пятнадцать ждем появления колонны. Но вот на дороге вначале появляется командирский «уазик» с длинной, раскачивающейся на ветру антенной. А за ним, подобно гигантской бронированной гусенице, выползает вся колонна. Она вытягивается почти на километр...
Покинув тесные улочки городка, колонна, набирая скорость, проносится мимо, обдавая нас вонючим синим дымом отработанной солярки и клубами пыли. После третьей, четвертой машины пыль становится такой густой, что съемка теряет всякий смысл — в желто-коричневых облаках просто мелькают неясные тени.
Я отбегаю подальше и устанавливаю штатив метрах в двухстах от дороги. Точка обзора великолепная. У меня в кадре вся дорога с поворотом к синеющим вдалеке горам. Рев множества моторов заглушает всякие звуки. Пройдя камерой вдоль всей колонны, в ее конце замечаю красную фигурку Геворкяна, который отчаянно машет мне руками. Я делаю знак: «Сейчас подойду!», но он отрицательно машет и буквально требует, чтобы я никуда не двигался.
И тут только я замечаю белые таблички у края дороги: «МИНЫ»...
Чувствую, что побрился и поменял одежду я не зря. Представать перед Господом лучше в чистой одежде. Как я прошел, не наступив ни на одну из множества мин? Везет дуракам и пьяницам... Но я не пью, значит... Ну да! Не очень лестно, конечно, но выбираться как-то надо...
Закон номер один на минном поле: если тебя угораздило туда попасть, имей совесть — никогда никого не зови на помощь. Сам вляпался, сам и выпутывайся...
Теперь мне становится не до съемки. Сложив две ножки штатива, из третьей я делаю своеобразный щуп. Карен буквально приплясывает у края дороги... Я ему показываю кулак, чтобы ни в коем случае не шел ко мне, и начинаю путь длиной в жизнь. Камера зачехлена, кофр, чтобы не мешал, висит за спиной. Сначала я пытаюсь высмотреть собственные следы на сухой земле, густо засыпанной острым галечником. Кое-где следы, конечно, видны, но очень плохо. Начинаю сомневаться, мои ли это следы, потом сомневаюсь, следы ли это вообще?
Тщательно ощупываю ножкой штатива место, куда намереваюсь поставить ногу. Вроде ничего нет. Делаю первый шаг и внимательно прислушиваюсь, не прозвучит ли щелчок. Слышу хруст камня под ногой, слышу, как мне кажется, даже топот лапок пробегающего мимо жука, но ничего похожего на металлический щелчок сработавшего взрывателя. Ни одна мина, ни одна граната не срабатывают бесшумно. Перед взрывом всегда следует сухой металлический щелчок. И тут уж нужно мгновенно падать на землю ногами к звуку. Это единственный шанс не погибнуть. Ранен, поцарапан, даже остался без конечностей, но живой.
Не знаю, хватит ли моей гордости, чтобы остаться стоять после щелчка. Может быть, лучше погибнуть, а не продолжать жить калекой, мучая себя и окружающих...
Буквально в 3-5 сантиметрах от носка кроссовки замечаю зеленый пластмассовый бочок противопехотной мины. Рядом их, как правило, не ставят, поэтому второй шаг дается легче. Третий шаг должен попасть на какой-то почти невидимый проволочный «усик». С дороги доносится спокойный голос:
— Не дотрагивайся до проволоки... Бери правее.
Я уже и не замечаю, как на краю дороги останавливается машина с яркой белой надписью на бампере: «Разминирование». Из нее выходит седой пожилой майор и смотрит на меня в мощный бинокль.
— Вы же минеры... Ну и разминируйте...
— Эти мины не мы ставили. Это — азербайджанские. Придется тебе самому выходить, как зашел. Но ты не бойся, я за тобой слежу...
Черт! Следит он... Лучше бы проход в минном поле сделал... Проверив ножкой штатива почву, делаю четвертый шаг... Я так устал. А сколько еще этих шагов? Следующие шаги, сделанные уже по подсказке минера, даются легче. Минер сгоняет с дороги всех наблюдателей. Они не уходят, а только прячутся за машины и с болезненным любопытством наблюдают за моим передвижением. Солнце поднимается, и становится чуть теплее.
Мне жарко и нечем дышать. Все тело кажется сплошным сердцем. Я ощущаю пульсацию и в голове, и в глазах, и в кончиках пальцев ног. До безопасной обочины дороги остается метров десять, но — самые коварные. Чем ближе к дороге, тем гуще установлены мины. И ставили их без всякой схемы, как бог на душу положит.
Над землей протянута тончайшая, почти невидимая проволочка. Она опирается на два выступающих камня, а концами уходит куда-то под землю. Майор по-прежнему смотрит в бинокль:
— Вот эту ловушку профессионал ставил... высочайшего класса. Тут лучше подальше обойти. Похоже, что тут комбинация из противотанковых и противопехотных мин... Иди левее, еще левее...
— Карен! Лови аппаратуру! — кричу я. — Мне тяжело очень...
Раскачав за ручку достаточно тяжелый кофр с камерой, пленкой, запасом батарей, я придаю ему достаточное ускорение, и он плавно, по дуге, летит к дороге. Режиссер демонстрирует незаурядные вратарские способности и ловит сумку почти без сотрясения, плавно принимая на руки. Мне сразу становится намного легче, и я продолжаю свой бесконечный путь. Проверка ножкой штатива, словно щупом, новый шаг...
Последняя на моем пути противопехотная мина установлена чуть ли не метре от того места, где стоит и дает мне советы минный майор. Я показываю ему мину, чуть пошевелив кончиком штатива землю у его ног.
Майор бледнеет:
— Ничего себе! Я ее и не видел!
Когда я, наконец, наступаю на твердый, надежный асфальт, ноги неожиданно слабеют, подкашиваются, и я падаю на горячую, пахнущую смазкой и бензином поверхность.
— Сколько времени прошло? Мы, наверное, от колонны здорово отстали...
— Немного, минут пятнадцать, не больше... Догоним их на привале... Отдышись!
— А я думал, целый день прошел и сейчас уже вечер...
Снимаю совершенно мокрую рубашку, которая неприятно холодит спину, и выжимаю ее прямо на дорогу.
Ребята помогают мне дойти до машины на подгибающихся ногах, и мы трогаемся в путь. Мокрую от пота одежду я кладу сушиться на горячий двигатель и сижу, сибаритствуя и наслаждаясь сигаретой, в одних плавках...
Интеллигентный Карен через полчаса исчерпывает свой, оказывается, довольно обширный запас ругательств в мой адрес... Возмущается:
— Я его ругаю, так хоть бы обиделся или разозлился! Сидит с блаженной улыбкой на лице...
— Карен! Жить-то как хорошо... — отвечаю я, преодолевая внутреннюю дрожь. Руки, которыми я пытаюсь достать новую сигарету, трясутся так, что я не могу открыть пачку...
Наступает реакция на напряжение, испытанное на минном поле.
...С небольшими привалами, без особых приключений, к вечеру колонна прибывает на границу Нагорного Карабаха и Азербайджана. Поступает команда остановиться и набрать воды. Мы уже едем как полноправные члены колонны. Полковник, которого я увидел в течение всего дня только один раз, пробегая мимо нашей машины и увидев меня, выразительно крутит пальцем у виска, но от комментариев воздерживается. Видно, ему доложили о моем утреннем приключении, и он начинает очень сомневаться в моих умственных способностях. Что поделаешь, приходится принимать как должное...
Впереди нас мост, который сейчас проверяется минерами. Параллельно мосту через овраг тянется примерно полуметровая труба. По ней вода из Нагорного Карабаха поступает в пустынные, но удивительно плодородные долины Азербайджана. Заходящее солнце краснеет и почти касается вершин небольшой горной гряды, по которой и проходит административная граница. В районе моста труба пробита пулями. Из отверстий вода мощными фонтанами выливается в овраг, образуя на фоне заходящего солнца феерическую радугу.
Наученный горьким опытом, я уже не отхожу далеко от машины и уж точно не выхожу за пределы колеи.
— Эй! Журналист! Смотри, как наши диверсантов убили!
Фонтаны воды, бьющие из трубы, светлой дугой, разлетаясь на отдельные капли, падают на дно оврага. Внизу — глубокая тень, но склон горы, освещенный солнцем, отражает достаточно света, чтобы разглядеть на дне шесть скрюченных тел.
Одетые в темные бесформенные комбинезоны, эти люди, по всей вероятности, были убиты где-то в другом месте, а привезены и сброшены в овраг на границе в назидание другим группам. Под действием воды и солнца лица их почернели и распухли...
Буквально на второй, третий день после смерти тело человека, оставшееся на воздухе, теряет все национальные признаки. По трехдневному трупу уже невозможно определить неспециалисту, кто погиб — армянин, еврей, азербайджанец, русский, турок или араб. Смерть снимает национальный вопрос... Живым это пока не удается...
— Что же их не похоронят? — спрашиваю я. Не кого-то конкретно, а так, в пространство.
— Ничего, сами сгниют... — «утешает» меня юноша, почти мальчишка, с ручным пулеметом...
Меня как-то коробит такое фамильярное, что ли, отношение к смерти. Человек, не уважающий смерть, не может уважать и жизнь...
...Заканчивается минная проверка, и колонна снова трогается в путь. Дорога рассекает горную гряду и выносит нас на просторы Азербайджана. Первый, кого мы встречаем на сопредельной территории, — огромный верблюд. Он стоит в нескольких метрах от дороги и с высокомерным выражением на жующей морде рассматривает все наше громадное железное громыхающее стадо.
Чуть в стороне от дороги — огромная ажурная деревянная арка, поверх которой написано латиницей: Daftumas...Дафтумас. Что это такое — название хозяйства, местности, района, — я узнать не успеваю...
Прямо на дороге, в глубоких вечерних сумерках, словно срабатывает фотовспышка. Машина на мгновение озаряется мертвенным голубым светом. Долю секунды спустя на месте вспышки прямо посредине дороги вырастает грязно-черный куст, внутри которого перебегают яркие огоньки... Верх куста тут же начинает закручиваться и наливаться чернотой. По машине стучат осколки, половинка лобового стекла с треском проваливается, пружинит и все же пропускает в салон горячий зазубренный осколок ракеты «Град»...
Машина встает как вкопанная метрах в трех от дымящейся воронки. Водитель теряется, жмет на газ и начинает бросать машину из стороны в сторону. И тут звучит спокойный голос Геворкяна:
— Что случилось? Обстреливают? Так в первый раз, что ли? Что за паника?
Далеко во мраке, окутавшем предгорья, видны световые стрелочки. Они словно указывают направление следующего удара. Приглядевшись, я понимаю, что это огненные хвосты стартующих ракет. Худо-бедно по ним можно хотя бы определить направление, куда они полетят. Мы успеваем развернуться на дороге и двигаемся уже назад.
Здесь, на открытой и ровной, как стол, степи спрятаться совершенно негде. Мы вспоминаем о расщелине, которая рассекла гору, чтобы пропустить дорогу, и решаем двигаться к ней. Там можно хотя бы спрятаться. Если ракета попадет в эту щель, мало не покажется, но для начала она должна попасть! Водитель с трудом удерживается, чтобы не разогнать машину до максимальной скорости.
Я внимательно вглядываюсь в черноту ночи. На долю секунды мелькают стрелочки, но они направлены в сторону нашего движения. Кричу:
— Стой!
Машина замирает на месте.
— Ты уверен в том, что делаешь? — спрашивает Карен тревожно.
Ответить я не успеваю. На том месте, где мы могли бы быть, если бы не остановились, вырастают новые огненно-черные кусты разрывов...
— Извини, я не успел тебе ответить...
— А уже не нужно...
— Поехали! — кричу я снова. — Быстрее. Вперед...
Машина резко прыгает и мчится, словно за нами гонятся... На том месте, где мы только что стояли, возникает стена огня и черного дыма...
Наконец мы оказываемся в спасительной расщелине и останавливаемся, прижав машину к стене, ближайшей к выстрелам. Ракеты «Града» летят по пологой траектории, и попасть в наше убежище им будет трудно, а скорее невозможно.
Мы выходим из машины. Обстрел продолжается... Далеко в темноте южной ночи загораются дома деревни, где у нас планировался ночлег.
— Что будем делать? — спрашивает Геворкян.
— А что делать? Спать... Утро вечера мудренее...
Я присматриваю себе местечко для сна, но все занято, а тревожить никого не хочется. Спать нужно обязательно, потому что на другой день качество работы снизится до нуля. А учитывая мою утреннюю «прогулку» по минному полю, поспать необходимо вдвойне. Спалил я нервных клеточек немеряно...
Я чуть ли не с нежностью вспоминаю свою сумку, оставленную в такси. Там есть все для полноценного отдыха — и тонкий, но совершенно не пропускающий холод матрасик, и надувная подушечка, маленькая, но очень удобная, и теплая куртка, которую легко можно использовать как одеяло. Повздыхав о несбыточном рае, ложусь прямо на голую землю. Кофр с аппаратурой — под голову, гудящие от усталости ноги, чтобы были повыше, закидываю на колесо нашей машины. Ругаю себя за то, что не захватил даже фонарик...
Над головой черно-синий купол неба, на котором дрожат и переливаются близкие звезды. Мы находимся все же на приличной высоте над уровнем далекого моря, где-то с километр, и поэтому ночь меня не особенно щадит. Тем не менее, обняв себя руками за плечи, проваливаюсь в сон. И снова я иду по минному полю, на краю которого стоят все, кто мне дорог и близок. Вдруг они начинают движение мне навстречу... Я стою совершенно беспомощный, не в состоянии сделать ни шагу. Хочу кричать, чтобы не ходили, что это опасно, но болезненный спазм перехватывает горло, из него вырывается только натужный, но почти неслышный хрип...
И вдруг кто-то из моих родных наступает на мину... Слышится ужасный грохот, вверх летят безобразные комья земли вперемешку с кусками разорванных взрывом тел... В ужасе я просыпаюсь.
В ущелье, где мы заночевали, кисло пахнет взрывчаткой. Узкая полоска розовеющего неба затянута коричневой пылью. Одна шальная ракета все же попадает в противоположную стену и обрушивает часть косогора. Комья земли, поднятые разрывом, еще стучат по машинам. Один комок, чуть поменьше моей головы, падает совсем рядом и рассыпается в мелкую пыль. Сон на голой земле так выстудил меня, что все тело сотрясает дрожь. Безуспешно пытаюсь согреться сигаретой. Нужно найти горячего чая или, на худой конец, просто кипятка. Еще раз с тоской вспоминаю об оставленной сумке. Там есть кипятильник, работающий даже от автомобильного прикуривателя.
Чуть дальше, за следующей машиной, горит костерок, возле которого сидят люди. Подхожу. Совершенно не знакомые мне люди двигаются, садясь потеснее, и освобождают место у огня... Потихоньку здороваюсь и присаживаюсь. Тут же у меня перед лицом оказывается кружка с восхитительно пахнущим чаем, крепким, «как карабахский мужчина». Какой-то проходящий мимо ополченец накидывает мне на плечи теплый бушлат. Причем все это происходит в полном молчании... Такая молчаливая, не требующая ни слов, ни благодарности доброта трогает до слез.
Наконец небо светлеет окончательно. Перед самым восходом солнца ночь уносит остатки тепла, даже земля, которая нежилась в тепле весь предыдущий день, остывает окончательно и буквально «обжигает» холодом. За ночь в тесное ущелье набивается множество машин с людьми, в основном грузовики. Входы в ущелье с двух сторон перекрыты танками и бронетранспортерами. На вершинах и склонах тут и там виднеются часовые. Похоже, не только нам приглянулось это ущелье в качестве укрытия от обстрела.
Радует, что мы оказались здесь первыми и, естественно, заняли самое безопасное место. Ракета, ненароком попавшая в склон, к счастью, никого не задевает и не особенно тревожит людей. Многие спят сном праведников, лежа на бушлатах, прямо на обочине дороги и в придорожной совершенно сухой канаве, которая никогда не видела дождя.
С восходом солнца полковник высылает вперед разведку, а в село отправляется танк в сопровождении бронетранспортера. Тишина утра нарушается ненадолго ревом двигателей и лязгом гусениц. Танк и БТР отходят от нашей стоянки, спускаясь к пересохшей речке, а потом поднимаются на противоположный берег. От их движения мельчайшая пыль, которая толстым слоем покрывает дорогу, поднимается и висит в неподвижном воздухе огромным, почти километровым облаком, видным издалека.
Вазген хмурится, глядя на это, и говорит:
— Сейчас начнут...
— Что «начнут»?
Вместо ответа далеко на дороге, там, куда ушли танк с транспортером, вырастает коричнево-серый куст разрыва. Чуть позже до нас доносится и сам его крякающий звук...
— Будем надеяться — не попали...
Далеко в деревне один за другим снова вырастают кусты разрывов, а горизонт затягивает пыльная мгла. Там загорается еще один дом. На ярком солнце пламени не видно, но черный дым поднимается вертикально вверх и расползается грязным облаком, оскорбляющим чистую синеву осеннего неба.
Ближе к полудню возвращается разведка и пригоняет с собой небольшое стадо живности. Телята, козы, овцы, оставленные людьми в брошенном селе, голодны и тянутся к людям. Ополченцы, многие сами почти мальчишки, кормят животину лепешками...
Мужики, постарше и посолиднее, посмеиваются:
— Сейчас их кормят, а чуть позже они нас кормить начнут...
Пророчество сбывается почти сразу. Хозяйственники разводят большой костер на склоне, обращенном в сторону Нагорного Карабаха, и делают над ним какой-то хитрый навес, от которого дым не поднимается в небо, а растекается вдоль склона. Подхожу ближе, пытаясь понять устройство этого навеса. Под этим навесом на костре, устроенном в форме очага, уже жарится мясо убитого и освежеванного теленка. «Повар», один из ополченцев постарше, отрезает от туши огромный дымящийся кусок, достает из мешка лепешку и кричит:
— Эй, журналист, бери свою пайку!
Долго упрашивать меня не надо, потому что уже сутки в желудке не было ни крошки, и я беру предложенное угощение. Столько мне явно не съесть, и я отправляюсь с полученным «пайком» к машине Карена. Там уже пир горой. Все члены киноэкспедиции достали из сумок взятые с собой продукты. Добытое мясо укладывается на постеленные прямо на склоне газеты, и через несколько минут от него остаются только добела обглоданные кости.
— Вот теперь можно и повоевать! — ковыряя в зубах щепочкой, благодушно говорит водитель.
Тем временем обстрел продолжается. «Град» по-прежнему упорно расстреливает деревню, виднеющуюся на горизонте. Столбы дыма от горящих домов поднимаются и закрывают полнеба. Откуда-то из этой пелены вылетает танк, который рано утром отправлялся в деревню. Выясняется, что одна из ракет попала-таки в БТР. Никто не пострадал, единственное повреждение — осколками побиты колеса. БТР сейчас придет своим ходом, но на спущенных колесах. Спустя еще несколько минут из клубов пыли выползает и БТР, жутко царапая дисками по галечной дороге. Скрип стоит такой, будто одновременно работают штук сто бормашин. Даже зубы от этого скрипа начинают шевелиться.
Карен ходит где-то возле начальства, которое стоит на горе и в бинокли смотрит в сторону противника. Потом он срывается и бежит к нашей машине:
— Заводи, едем!
— Куда?
— Наши вышли к иранской границе...
В считанные секунды мы прыгаем в машину, и водитель снова показывает чудеса автоэквилибристики, выворачиваясь из скопища машин на оперативный простор. Командирская машина, за которой пристраиваемся и мы, гонит прямо через поля и арыки. Трясет нещадно. Камера в руке прыгает, и в видоискателе — то небо, то кусок окна, то пролетающие мимо стебли неубранной кукурузы. Куда мы летим, непонятно, но вдруг попадаем на поле, которое плавно поднимается вверх. На нем растет только ковыль и бурьян. По всему полю разбросаны какие-то бетонные конструкции, части то ли разрушенной, то ли недостроенной ирригационной системы.
Машина останавливается в небольшом ложке, похожем на заросший травой старый капонир или окоп. Она скрывается в этом окопе по самую крышу, и мы, отойдя от машины на десяток метров, уже не видим ее. Карен вытаскивает какую-то мудреную кинокамеру, и мы идем на юго-запад, откуда доносятся редкие залпы танкового орудия.
Танк стоит прямо на полевой дороге, занимая своей приземистой тушей всю колею. Двигатель натужно работает, и танковое орудие словно обшаривает горизонт. Вдруг раздается грохот, из орудия вместе со снопом пламени вырывается длинный язык едкого черно-серого дыма, а сбоку вылетает и, гремя по броне, скатывается на землю серая гильза. Далеко впереди за речкой на косогоре, по которому ползут какие-то машины, вспыхивает искорка разрыва и поднимается светлый столб дыма вперемешку с песком. Разрыв чуть в стороне от дороги, но он вызывает панику. Машины, видные нам движущимися точками, начинают разбегаться по полю.
Чуть дальше на горе стоит боевая машина пехоты и бьет в ту же точку короткими очередями, по три-четыре снаряда. Снаряды, словно рассерженные светляки, перелетают и село, и речку, и дорогу, забитую транспортом, и разрываются далеко в ложбине.
В нашу сторону тоже долетают шуршащие над головой то и дело пули. Я возвращаюсь к машине и достаю из сумки свой заслуженный бронежилет. Бегать по полю под палящим солнцем в бронежилете — удовольствие «на любителя». Польза от него тоже вызывает большие сомнения.
Когда-то, на заре перестройки, я снимал сюжет в Московском институте стали и сплавов о возросшем спросе на бронежилеты. В числе прочих эпизодов был и такой. В манекен, одетый в жилет, испытатель стреляет по очереди из автомата Калашникова, из пистолета Макарова и пистолета Стечкина. Потом снимают с манекена невредимый жилет. Пули, превратившиеся в бесформенные лепешечки, вынимаются из кевлара, из которого сшит жилет.
Под впечатлением этой съемки я прошу у начальника цеха продать мне такой жилет. Ни один из стандартных жилетов на меня не налезает, тогда начальник цеха решается:
— Забирай тот, что мы готовили для Ельцина. Жилет скрытого ношения, так называемый «Визит». Ельцину он коротковат оказался, и мы ему сшили другой.
Мне жилет Ельцина оказывается в самый раз. К нему прилагается еще куртка с броневыми вставками, предохраняющими плечи. В рукава куртки вшиты кевларовые накладки, совершенно не видные снаружи, но предохраняющие от удара ножом и от выстрела из пистолета. И все это добро стоило тогда смешные деньги — чуть больше ста долларов. Сейчас такой набор невозможно купить и за тысячу...
Несмотря на «невидимость», тяжесть у жилета порядочная, и скоро я уже задыхаюсь, как загнанная лошадь. Через некоторое время решаю, что бегать по огромному полю, гоняясь за всеми танками сразу, неконструктивно, и я выбираю один, который обстреливает колонну на том берегу. Устанавливаю камеру на штатив, выбираю кадр и включаю. Раздается выстрел. Я провожаю вылетевший из пушки снаряд и вдруг вижу, что снаряд этот попадает в машину на том берегу. Трансфокатор помогает мне увеличить картинку, и в кадре видна горящая машина, из кузова которой высыпаются люди. Зрелище завораживающее и жуткое...
Следующий снаряд попадает в боевую машину пехоты, которая начинает гореть, чадя черным маслянистым дымом. Через несколько минут внутри взрывается боезапас, срывая с нее башню, словно пробку от шампанского. Крутясь и кувыркаясь, она падает на дорогу. Чуть дальше пролетает какая-то фигура и также замирает на дороге, превратившись в костер, который спустя короткое время тухнет сам по себе...
И тут я решаю, что снимать мне на этом поле больше нечего...
Собрав камеру, подхожу к Карену:
— Все, я закончил...
— Я давно закончил, тебя ждал.
— Ну, извини, что заставил себя ждать...
— Ничего, все нормально...
Но ехать нам еще нельзя, и мы долго, почти до захода солнца ждем, когда закончится бой.
На закате нам, наконец, дают сигнал, что ехать можно. Поле, над которым совсем недавно пели пули, покрыто машинами, с которых слезает и начинает занимать село пехота. Ополченцы небрежно держат автоматы, не ожидая сопротивления, так как все село на границе жители и азербайджанские войска в течение дня покинули... Мы потихоньку движемся по дороге и, наконец, приезжаем в то место, куда падали снаряды... В стороне от дороги чернеет остов разбитой машины. Людей не видно. Видимо, отступающая азербайджанская армия забрала всех своих убитых и раненых. На дороге остается только боевая машина пехоты с сорванной башней... Внутри машины еще что-то догорает, чадя струйкой синего дыма. На месте водителя — труп, превратившийся в бесформенный кусок горелого мяса.
— А эти-то трупы почему не забрали?
— Это не мусульмане, наемники. Из Украины или из России...
— Но они же воевали на стороне мусульман?
— Ну и что? Они же за деньгами пришли. Вот и получили...
Недалеко от башни лежит еще один труп. Вся одежда, пропитанная соляркой и маслом, сгорела, остались на обугленном теле только солдатский пояс с пряжкой и остатки сапог на ногах. Танкист лежит навзничь, устремив в далекое небо невидящие, сгоревшие глаза.
Мы направляемся в азербайджанский районный центр Джебраил. Над ним стоят столбы синего дыма. Город горит. Он тоже захвачен нагорно-карабахской армией. По городу носятся подростки с тачками и детскими колясками. Они взламывают двери домов, забирают самое ценное, а потом поджигают их. Тачки и коляски заполнены разным добром. Мародерство в разгаре. На перекрестке дорог стоит закутанный в маскировочную сетку милицейский «уазик». Мародеры спокойно катят свои тачки и коляски мимо скучающих милиционеров.
— Почему вы не пресекаете мародерство?
— Это не мародерство, а контрибуция... — спокойно отвечает милиционер. — Они нас много лет обирали и депортировали, теперь мы восстанавливаем то, что они у нас отобрали...
Логика, конечно, в этом есть. Но только обирали и депортировали одни, а страдают совершенно другие люди, но это не принимается во внимание...
Впрочем, кто я такой, чтобы кого-то судить и выносить приговор? Мое дело — снимать то, что происходит...
На перекрестке дорог, на выезде из города стоит большая столовая, где в мирное время всегда можно было перекусить в ожидании транспорта. Сейчас столовая разорена, большинство окон выбито, и по пустому залу гуляет и шуршит разбросанными бумажками ветер.
Сбоку от входной двери шумит водопад. Под его струями прыгают мальчишки, побросав набитые чужим добром тачки и коляски. Мы подъезжаем поближе к водопаду и решаем немного «почистить перышки» перед дорогой обратно, в Геташен.
Вдруг из-за поворота вылетает знакомая канареечная «Волга» с шашечками на борту. Из окна машины высовывается знакомое лицо.
— Командир! Такси подана! — кричит Армен на всю площадь.
— Ну вот, — огорченно говорит Геворкян, — только познакомились, уже расставаться...
— Ничего, Карен, мы еще вместе поработаем, — твердо обещаю я и гружу свои сумки в багажник такси.
Наутро я уже в Ереване и вылетаю первым рейсом в Москву. А уже в полдень по каналам CNN показывают бой, в котором войска Нагорного Карабаха практически заканчивают войну. Потом будут долгие переговоры, продолжающиеся по сей день…
* * *
Источник:www.fedayi.ru
Глава из книги "Я снимаю войну..." Школа выживания..." М., 2001, 308 с.
Чрезвычайщина-91
Совершенно непереносимая привычка — по утрам слушать новости. Непереносима она, конечно, только для домочадцев, которые хотели бы чего-нибудь веселенького.
— Ну вот, — говорю жене, переключая каналы. — Смилостивились над тобой телевизионщики, с утра «Лебединое озеро» передают...
Первый канал — «Лебединое озеро», второй — то же самое. Все каналы как сговорились...
Сердце сжимается от безотчетного страха. Что-то случилось... Что? Пока не ведаю... Из опыта знаю, что телевидение так просто сетку вещания не меняет. Если такое происходит, значит, кто-то из высших чиновников умирает либо в стране меняется строй...
Если умер, то кто? Горбачев еще молодой. Совсем недавно, каких-то шесть лет назад, никто и не знал фамилию нового члена Политбюро. Мне нужно было найти его портрет, так проехал чуть ли не десяток магазинов. Только в одном нашел портрет Михаила Сергеевича, отретушированный до блеска и без характерного пятна на голове. Помню, тогда мы очень веселились по этому поводу. Как так — по телевидению родимое пятно есть, а на фотографии нет? Высказывали всякие смешные предположения и придумывали коллизии, как Горбачева во время госвизита задерживают на границе ввиду несовпадения личности на фотографии и в натуре...
Кто может быть еще? Ельцин? Так из-за не го вряд ли отменят все передачи и поменяют сетку вещания, — уж слишком он поперек горла союзным начальникам стоит. Конечно, каналам в 91-м уже послабление вышло, не так плотно опекает Политбюро, да и цензура притихла. Она, конечно, никуда не делась. Ни разу не видел ни одного цензора, который бы искал работу. А по телевизору на всю страну иной раз такое говорят, что сердце сжимается от сладкого ужаса. Думаешь — вот кончится передача и ведущего, который на всю страну говорит то, о чем и на кухнях, с включенной водой, мы раньше говорить побаивались, заберут одинаковые люди в штатском, а у дверей студии ждет с открытой дверцей «черный воронок». Но что-то с трудом верится, что ради Ельцина партия поставит «Лебединое озеро». Скорее «Танец с саблями»...
Может быть, покушение? Были же покушения на Горбачева, правда, неудачные. Потомки-то, конечно, Горбачеву из чистого золота памятник отольют. Еще бы, Человек ХХ века. По результатам своей деятельности и влиянию на судьбы людей Горбачев встал в один ряд с Лениным. Только деятельность Ленина привела к созданию Советской империи на крови, а Горбачев перекроил всю карту мира относительно «бескровно». Ошибки потомками забудутся, а благодарность — останется. Современникам масштаб фигуры оценить трудно...
...Под «Танец маленьких лебедей» — бритье, душ... Пока шумит вода, по телевизору что-то говорят. Что? Не слышу... Жена приходит побледневшая:
— Чрезвычайное положение... — роняет руки и присаживается на край ванны. — Сейчас пресс-конференцию передавать будут...
Слава Богу, от моего дома до того места, где проходит пресс-конференция, одна остановка на метро. Так что в зал я влетаю, опоздав к началу буквально на пару минут.
Длинный стол, за которым сидят новые наши правители. Ставлю на камеру мощный «телевик», перевожу кадр с одного лица на другое... С точки зрения фотографа, лица — мрак. В Америке ни один из членов ГКЧП не имел бы шансов быть избранным даже на должность сантехника, если бы она была выборной, не говоря уж о муниципальном или федеральном уровне.
Первое, что думается при взгляде на них, — эти люди чего-то смертельно боятся. Ни тени улыбки на лице. Взгляды бегающие, глаза никак не могут сфокусироваться на одной точке. Даже отвечая на вопросы иностранных журналистов, которых в зале абсолютное большинство, они говорят, наклонившись к микрофону и не глядя на собеседника.
На душе становится чуть веселее. Сразу, с первой минуты становится понятно, что вся эта затея, хоть и ГК, но ЧеПуха... Чем только обернется она для людей? Обменявшись взглядами с коллегами, приходим к выводу: печатью интеллекта новые наши правители явно не отягощены. А Янаеву, исполняющему обязанности Президента СССР, очень не помешало бы хорошо опохмелиться. На фотографиях и видеокадрах хорошо видны мешки под глазами, нездоровая синюшная бледность сильно выпивающего человека и особенно — сильнейшая трясучка, которая не оставляет в покое лежащие на столе руки...
Озвучивается «Заявление советского руководства» и Постановление №1. Чрезвычайное положение!!! Этого нам только не хватало...
Иностранные журналисты въедливо пытаются выяснить, каким путем пойдет страна при ГКЧП. В «президиуме» — легкая паника. Они продумали только первый шаг — как взять власть и устранить первого Президента страны. Похоже, дальнейшие шаги ими не просчитаны. Реакция мирового сообщества — неизвестна. Что делать, если будут заморожены кредиты и инвестиции, которые многие страны дают «под Горбачева», — тоже не ясно... Особого оптимизма в ответах не наблюдается...
Кому-то из западных журналистов передают на мобильный телефон, что в Москву идут танки. Эта весть по пресс-центру разносится мгновенно и вызывает шквал новых вопросов. Ответы никого не удовлетворяют. «Гекачеписты», как их мгновенно окрестили журналисты, либо изворачиваются и лгут, либо отказываются от комментариев...
После пресс-конференции остается двойственное ощущение. Первое: ГКЧП — это не всерьез и не надолго. На какой срок? Пока неизвестно...
Второе: ощущение обиды, что тебя пытаются держать «за дурака», подсовывая вместо серьезной политической фигуры каких-то марионеток. И мы выходим из зала, прикидывая: а кто же за всем этим стоит?
Но действительно весомых фигур на политическом олимпе не обнаруживается. Те, кто сможет удержать страну и повлиять на ситуацию, оказываются как бы в оппозиции. Наиболее странная ситуация с «болезнью» Горбачева. Что стоит за туманной формулировкой «в связи с невозможностью, по состоянию здоровья, исполнения... обязанностей Президента СССР»? Отравление? Банальное убийство? Где «ядерный чемоданчик»? Если перекочевал к Янаеву, так он же своими дрожащими руками и кнопку-то не сможет нажать. В общем, после этой пресс-конференции вопросов больше, чем ответов... Что это? «Чиновничий» бунт?
Остается без ответа и вопрос о танках... Отправляю в бюро отснятую пленку, а сам сажусь за руль «Жигулей», чтобы прояснить ситуацию.
Выезжаю на Кремлевскую набережную и вдруг вижу — вдалеке мелькает что-то похожее на боевую машину пехоты (БМП). Добавляю газу, но БМП сворачивает куда-то и в районе гостиницы «Россия» теряется из виду. Делаю еще круг.
На перекрестках центра города вдруг появляются военные регулировщики. В бронежилетах, полосатых касках, с автоматами, в стандартной экипировке, они похожи на вдруг выросшие зеленые грибы с белыми полосатыми шляпками. Нечто вроде сыроежек. Они стоят внешне безучастно почти на каждом перекрестке. Их появление всегда предшествует проходу воинских колонн. Не соврали иностранцы...
При повороте с бульваров на Тверскую улицу получаю знак от военного регулировщика — проезд закрыт. Но по улице, по тротуарам и по дороге в сторону Манежной площади спешат люди. Они идут широким шагом, некоторые даже бегут. И я сворачиваю вопреки указаниям военного. Пересекаюсь взглядом со стоящим неподалеку милиционером-гаишником. Если он остановит, придется подчиниться. Но он вдруг улыбается мне и подмигивает...
Это меня окончательно добивает. Чтобы работник ГАИ вот так пропустил грубейшее нарушение правил дорожного движения, да еще и одобрительно подмигнул!? Действительно, в Москве и в стране происходит что-то из ряда вон выходящее. Бросив машину возле «спичечного коробка» гостиницы «Интурист», подхватив аппаратуру, выбегаю на Манежную площадь.
На Манежной площади — тысячи людей. Они стоят группками по всей площади и смотрят, печально и обреченно, в сторону облупленного желтого здания Манежа. Из всех улиц, выходящих на площадь, бегут люди. Толпа густеет.
На улице, за Манежем, вдоль всей длинной ограды Александровского сада растягивается воинская колонна. Впереди, в голове колонны, стоит зеленый монстр, похожий на персонаж из какого-нибудь фантастического романа о пришельцах из Космоса. На громадном танке с широченными гусеницами смонтировано циклопическое сооружение, напоминающее гигантский утюг. Люди стоят вокруг и завороженно смотрят на это чудовище.
— Это что же, толпу раздвигать будут таким «ножом»? — охает одна из женщин.
— Такая штука применяется для расчистки завалов...— авторитетно говорит мужчина в серой, помятой рубашке с брякающим на ходу полиэтиленовым пакетом в руках.
Откуда-то из-за танка выворачивается подтянутый высокий подполковник:
— Граждане, разойдитесь, дайте пройти колонне...
— Куда это вы собрались? — спрашивают из толпы на разные голоса...
— У нас приказ...
— Кто вам приказал?
— Как кто? Начальство!
— Нечего по нашей Москве на танках ездить! — кричит женщина, замахиваясь на подполковника хозяйственной сумкой.
У меня камера наготове, но сумка до офицера не долетает. Какой-то пожилой мужичок перехватывает ее.
— Ты что? Обалдела? Он же подневольный человек. Приказали — пошел...
— Ага! Ему прикажут, он и по мне, и по моим детям стрелять будет! — не успокаивается женщина.
— Прикажут — будет! Работа у него такая, а вот если он не сможет по уважительной причине приказ выполнить — другое дело... А ну, ребята! Создадим ему трудности!
Через считанные секунды от здания факультета журналистики МГУ на Моховой люди тащат куски толстой арматуры, доски, бревна, и все это впихивается в гусеницы передового танка. Несколько мужчин помоложе останавливают троллейбус, оторвав от проводов рога тоководов. Водитель троллейбуса безропотно выходит из кабины, и многотонная машина руками толпы быстро ставится поперек движения воинской колонны. Люди пытаются раскачать троллейбус, чтобы повалить его на бок, но безуспешно...
Подполковник безнадежно машет рукой и уходит куда-то. Тем временем с Тверской к Манежной площади спускается новая колонна бронетехники. Она доходит только до «Интуриста» и останавливается, не в силах двинуться среди густой толпы людей, которые не торопятся уходить с ее пути, а, напротив, взявшись за руки, образуют живую цепь, перегородившую всю улицу. Снимая эпизод за эпизодом, я так увлекаюсь, что не замечаю, как почти кончается пленка... С сожалением покидаю бурлящую площадь, чтобы отвезти съемку...
Кое-как выбравшись с Тверской улицы на Манежную площадь, поворачиваю направо и еду сквозь возбужденную толпу к улице Герцена. Проезжая часть непривычно пуста. Это немного настораживает. Обычно в это время она забита машинами. А сейчас по всей ширине улицы мне навстречу движутся только пешеходы. Поднявшись к Никитским Воротам, упираюсь в тупик, который образуют стоящие вплотную друг к другу десяток бронетранспортеров. Они со всех сторон блокируют здание ТАСС.
Паркую машину возле Театра Маяковского и подхожу. Солдаты сидят в машинах, а возле БТРов прохаживается молодой подтянутый офицер. Он неодобрительно смотрит на камеру, но, видно, приказа не давать журналистам работать он не получил, поэтому съемке не мешает. К нему подходит кто-то из журналистов и протягивает диктофон:
— Как вас зовут?
— А это еще зачем? Не важно. У меня есть звание...
— Хорошо. Товарищ капитан, какая задача поставлена перед вашим подразделением?
— На этот вопрос я не могу отвечать...— сердито отрезает он.
— Но что вы здесь делаете?
— Выполняю приказ. Мне приказали встать здесь, я и стою...
— А что вы чувствуете при этом?
— Армию совсем не уважают! Вот что я чувствую...
— А вдруг вам прикажут применить оружие против мирного населения?
— Если будет такой приказ, куда же мы денемся? Будем выполнять! — говорит он уже менее уверенно.
В толпе окруживших нас людей слышится грозный ропот...
— Куда вы сейчас поедете?
— Пока никуда. Потом, возможно, поедем на улицу Горького...
Я ругаюсь про себя. Надо же, такое шикарное интервью могло получиться! Понятно, что репортеру из агентства не до тонкостей, лишь бы информация была. Но ничего он не узнает ни про офицера, ни про воинскую часть, ни про настроения в армии. А ведь парень, этот капитан, настоящий кладезь информации.
Почему бы не посмотреть внимательно на маркировку БТРов? А ведь у них на башнях нарисованы маленькие пантеры и две красные буковки ВВ. Внутренние войска. Значит, часть и этот офицер из отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского. Стоит дивизия в Балашихе, а живут офицеры в городке Реутово. Очень многие офицеры живут «на птичьих правах». Если он в звании капитана, то служит не первый год, а если такой ретивый служака, то наверняка без квартиры, но вот-вот получит... В общем, просчитать бы все это перед интервью, тогда и разговор другой получился бы.
Спрятав в кофр камеру, подхожу к капитану, который уже устает отругиваться от бабушек из толпы. Через пять минут узнаю о нем решительно все, и мои предположения по поводу семьи, маленькой зарплаты и квартиры сходятся на сто процентов. Олег М. со своим батальоном стоит на перекрестке с 4 часов утра, а личному составу перед отправкой выдали сухой паек только на сутки, зато снабдили полным боезапасом патронов. Сам Олег думает, что никакой стрельбы не будет, и хочет перебраться на охрану Белого Дома. Но решение квартирного вопроса в таком случае затянется на неопределенное время. Еще пять минут спустя он и его солдаты берут интервью у меня. Что такое ГКЧП? Кто такие «гекачеписты»? Охотно делюсь с ними своими впечатлениями от пресс-конференции...
...Один из первых шагов ГКЧП — установление контроля над информацией. Но как можно контролировать информацию с помощью бронетехники? Непонятно и смешно. Мимо БТРов туда-сюда снуют пешеходы, которых никто не задерживает и никто не проверяет. Значит, блокирован только проезд транспорта... Но если знать город, никто не мешает проехать проходными дворами, которых в Москве множество. Что я и делаю.
«Сбросив» пленку, вновь прыгаю в машину и еду к Дому Советов, так называемому Белому Дому. По Калининскому проспекту движение официально не перекрыто, сотрудников милиции не видно, но машины почему-то не ходят. Перескочив Калининский мост, вижу и причину. По сторонам от моста, на подъемах с набережной, стоят танки со стволами расчехленных орудий, направленных друг на друга... С точки зрения фотографа или оператора — картинка почти идеальная, но представлять, во что это выльется в жизни, если вдруг стороны получат приказ стрелять, как-то не хочется...
Все это время сердце остается каким-то зажатым, словно ледяная ладонь обхватила его и не отпускает. При виде такой картины ладонь сжимается сильнее, перехватывая дыхание. Хорошо, что в автомобильной аптечке находится валидол. Положил мятную таблетку под язык — вроде отпускает. Никогда на сердце не жаловался, а тут...
Загоняю машину в арку жилого дома, что напротив «раскрытой книги» здания СЭВ. Идти надо чуть дальше, но без транспорта оставаться не хочется. Что там придет в голову танкистам? Толпа вокруг здания Дома Советов, где сейчас штаб Ельцина, густеет. Люди приходят тепло одетые, не по сезону. Ждут штурма. Время к полудню. Народ строит баррикады, таская откуда-то строительные материалы, арматуру, рельсы, столы, ржавые кровати... Откуда вокруг Белого Дома столько хлама, пригодного для строительства баррикад?
С лестничной площадки дома, куда я поднимаюсь, чтобы попробовать снять панораму, Белый Дом выглядит как жук в муравейнике... У одного из центральных подъездов толпа неожиданно собирается вокруг какого-то единого подвижного центра.
Скатываюсь с лестницы и бегу к этому центру. Прорываюсь сквозь кордон добровольных проверяльщиков, которые несколькими живыми кольцами окружают Белый Дом. По лестнице в сопровождении охраны спускается Ельцин, на ходу пожимая тянущиеся к нему отовсюду руки. К танку, на который он тяжело взбирается с помощью охраны, мы подходим почти одновременно. С того момента, когда я его видел в последний раз на трибуне Кремлевского Дворца Съездов, он заметно похудел и стал каким-то поджарым и энергичным. Сквозь плотный кордон коллег с камерами я пробиться уже не успеваю и запрыгиваю на скользкий каменный парапет лестницы. Отсюда обзор отличный, но слова слышны плохо...
— В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный Президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом...— говорит Ельцин.
Площадь, запруженная народом, завороженно молчит. Слышно, как где-то вдалеке по асфальту громыхают траки танковых гусениц. Ельцин продолжает:
— Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют страну перед всем миром... Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет...
...Внизу подо мной стоит оператор испанского телевидения. Он небольшого роста, и за спинами плотно стоящих людей ему ничего не видно.
— Хосе! — стучу его тихонько по макушке. — Поднимайся ко мне...
Он подает мне камеру и заскакивает на парапет, вызывая недовольное бурчание зевак.
— Тихо, мужики! Ты один смотришь, а его картинку миллионы увидят...— шепчу стоящим рядом молодым парням.
— Да ладно, чего там!? Пусть работает... — и пространство вокруг оператора расчищается.
— Спасибо! Спасибо! — Хосе вскидывает на плечо тяжелую камеру и наводит на Президента России.
— Не сомневаемся, — заканчивает Ельцин, — что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота... — Вскидывает руку в ответ на шумную овацию, устроенную людьми.
Мы с Хосе спрыгиваем с парапета и бежим, огибая сравнительно медленно идущую группу по широкой дуге. Тем не менее по пути нам приходится преодолевать начатую баррикаду, проскальзывать мимо сотен людей. Все же мы успеваем и снимаем медленно идущую группу на фоне танков и баррикад.
С удивлением вижу в толпе знакомого фотографа. Рядом с фотоаппаратом у него на плече висит десантный автомат. Он идет вплотную за Президентом, а увидев нас, отворачивается от объективов. Странные метаморфозы иной раз происходят с людьми. Сначала удачливый инспектор дорожного надзора ГАИ. Потом неведомая сила заносит его в Фотохронику ТАСС. Работает фотографом... Не то чтобы звезды с неба хватает, но фотоаппаратуру ему выдают. И вот следующий шаг, но уже с автоматом на плече...
Что бы это значило? Ничего особенного. Просто в этом водевильном перевороте он поймал за хвост свою удачу и стал допущен «к телу». А это еще означает эксклюзивные возможности съемки, которых нет ни у кого, и полное отсутствие конкуренции. Не нужно теперь думать о композиции, о необходимости опередить конкурентов, об аппаратуре... Как говорят, все карточки «в кассу». Остается только вздохнуть, но не позавидовать... Вместе с приобретением возможностей теряется свобода творчества... Ты отныне и вовеки веков вынужден работать на одной и той же фактуре...
...Площадь перед Белым Домом возвращается к обычной жизни, прерванной было выступлением Президента. Носятся неясные слухи о приближении к Манежной площади нескольких танков, о появлении в районе Большого театра мотострелкового подразделения. Люди, собравшиеся на Манеже, вручную катают троллейбусы, перегораживая ими все улицы, выходящие на площадь.
Около половины второго на площадь пытаются прорваться спецмашины-водометы, но люди самоотверженно бросаются на них и пытаются сломать. Водометы отступают.
Меня не оставляет ощущение какой-то театральности, «показушности» всего происходящего. Ну что, в самом деле, за путч такой? Почему войска, которым надлежит выполнять приказы, их попросту игнорируют? Что это за комендантский час, на который всем наплевать? Нас пугают, а нам не страшно...
Буквально в первые же часы становится ясно, что весь этот «гекачук» провалился полностью. Девять человек комитета не становятся единым управляющим организмом... «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...» Как тут не вспомнить Высоцкого?
Особенно меня смешит надпись углем прямо на стене Белого Дома: «Забил заряд я в тушку Пуго!» Что, на самом деле, делает министр внутренних дел, член ГКЧП? Подчиненная ему элитная дивизия внутренних войск переходит на сторону Ельцина. Отряд милиции особого назначения — ОМОН — охраняет в Белом Доме радиостанцию «Эхо Москвы», а сотрудники ГАИ и патрульные милиционеры, как по мановению волшебной палочки, исчезают с московских улиц.
Во второй половине дня разносятся опять новости. Горбачев, отстраненный от власти, в ночь на 19 августа, «в связи с неспособностью управлять государством по состоянию здоровья», находится под домашним арестом на своей крымской даче.
Логики в этом сообщении маловато. Если «по состоянию здоровья», то почему не в больнице, а на даче? Как можно арестовать больного? Это же просто бесчеловечно!
На нашей памяти государством руководили — в состоянии полного старческого маразма Брежнев, больной Андропов, полуживой Черненко. Неужели молодого Горбачева довели до такого состояния, что он стал хуже Черненко? А где, в конце концов, «ядерный чемоданчик»? Если у «гекачепистов», то можно всего ожидать, а если у Горбачева, так что это за арест? Тоже мне заговорщики — концы с концами не сходятся, а туда же, в Цезари Борджа метят!!! Пустяковый заговор не могут продумать, а лезут во властители! Или все по Ленину: «В нашей стране любая кухарка сможет управлять государством!»? Кухарка суп должна варить, пирожки печь, а не лезть в правители. Тут другие навыки нужны...
Тем временем процесс «раскачивания лодки» идет полным ходом. Такое впечатление, что умные, проницательные люди договариваются играть в «солдатиков» на московских улицах. Мало того, в городах и весях России, восприняв как бы всерьез этот опереточный комитет, начинается размежевание на тех, кто поддерживает ГКЧП, и сторонников российского Президента, который категорически объявляет весь состав комитета — преступниками. А это уже не шутки. Это уже гражданская война в России...
На моих глазах растут баррикады у Белого Дома. Люди разбирают мостовую. На вечер вроде бы намечен штурм. В Белом Доме создается штаб по его защите. Но наступает вечер, а штурма нет. На ступенях и площадках лестниц, ведущих к Белому Дому, отставные военные проводят инструктаж и обучают приемам обороны без оружия. Проходит слух, что нападающие применят газы, и все участники обороны независимо от пола и возраста получают противогазы. На всякий случай я тоже получаю противогаз. Мало ли что...
Сгущаются сумерки. Штурм, похоже, откладывается. Если честно, то я никакого штурма не жду, но по просьбе агентства дежурю на площади. Когда совсем темнеет, еду на Манежную площадь. Центральные улицы и магистрали забиты бронетехникой. В стволах многих орудий торчат цветы. Танки, БТРы окружены народом. Восторженные мальчишки прыгают по броне. Люди настроены в целом доброжелательно и потчуют голодных солдат домашними пирожками и прочей снедью. Военные плохо знают Москву, и многих переулков они просто не замечают, поэтому до Манежной площади я добираюсь без особых проблем.
Площадь забита бронетехникой, как говорится, «под завязку». Крайние танки стоят впритирку друг к другу, с зазором в сантиметр. А что, интересно, делается на самой площади? Покрутившись возле танков, залезаю на один из них, чтобы снять панораму площади. Все пространство огромной площади, огороженной, словно бронированным забором, танками и транспортерами, топорщится башнями, антеннами, приборами ночного видения. Зрелище впечатляющее. Поднимаю камеру и снимаю. Мощная вспышка выхватывает из темноты почти все пространство площади, но больше двух щелчков мне сделать не удается.
Появившийся откуда-то сбоку офицер бьет по камере, ломая вспышку. Корпус лампы отлетает и падает на броню, превратившись в груду бесполезных осколков. На мгновение я теряюсь: вспышка в свое время так дорого мне досталась! В то время любая фотожелезка была жутким дефицитом, и доставали мы все «прибамбасы», переплачивая спекулянтам, умоляя знакомых, уезжавших за границу, привезти что-то необходимое...
— Ты что, сопляк, делаешь? — ору я на всю площадь, наступая на офицера.
— Запрещено снимать, — испуганный парень уже пытается выхватить из кобуры пистолет. К счастью, кобура закрыта на кнопку, которую он забывает отстегнуть. — Начальство запретило, вон оно...
— Да плевать мне на твое начальство! Камеру мне зачем сломал? Ты же за сто лет не расплатишься...
— Уходите, стрелять буду! — Кнопка на кобуре, наконец, расстегивается. Тут уже не поспоришь: «Против лома нет приема!», и я спрыгиваю с брони. Нарочито медленно иду к машине, брошенной в сквере, ожидая каждую секунду выстрела в спину. Дойдя до края сквера, слышу крик: «Стой! Минуточку!» Оглянувшись назад, вижу бегущего ко мне офицера. То ли он спохватывается сам, что отпустил фотографа с камерой, то ли получает приказ от своего пресловутого начальства, но зачем-то я им понадобился. Свернув за угол, припускаюсь во весь дух к машине, быстро ныряю за руль. Спустя секунду на всех парах мчусь прямо через тротуарные бордюры на Калининский проспект. Поперек улицы стоит еще один бронированный барьер из танков. Вокруг суетятся солдаты. Что они собираются делать, неясно, но выяснять это я не собираюсь. С визгом колес делаю крутой поворот и через полосу встречного движения попадаю в переулок, который ведет к пешеходной зоне Старого Арбата.
Через проходной двор и арку выезжаю на Старый Арбат. Колеса дробно пересчитывают брусчатку, которой покрыта дорога. На улице ни души. Только вдалеке стоит одинокая бронированная боевая машина разведки. Потушив фары, медленно объезжаю ее и, минуя «высотку» Министерства иностранных дел, выбираюсь на Садовое кольцо. На середине Смоленской площади стоят два гаишника, которым я почему-то радуюсь как родным. Притормаживаю возле них:
— Ребята, можно нарушу слегка?
— Ты откуда взялся? — искренне изумляются они. — Куда направляешься?
— Да вот, домой не могу добраться... — слегка привираю.
— Где живешь?
— Вон там, за углом, в пятом доме...
— Да ладно, нарушай. Все равно никого из начальства нет. Все попрятались...
Пересекаю все разделительные полосы и скатываюсь с Садового кольца. Тут-то меня уже ни на каком танке не поймают... Фотографии площади получатся отменные, хотя вспышку очень жалко...
В бюро входят в положение и вместо обломка, оставшегося на камере, дают мне новую лампу. Работа продолжается...
* * *
Сложность работы в режиме «чрезвычайщины» не только в том, что нужно быть во многих местах, а патрули, кордоны, пикеты ограничивают свободу передвижения. Главное, что приходится преодолевать репортеру, это упрямая, часто злобная нетерпимость толпы. Она имеет магическую власть над человеком. Люди, спокойные и уравновешенные в обычной жизни, под влиянием толпы могут порой совершать самые неожиданные даже для самих себя поступки. Самое страшное — это паника.
А репортеру нужно не просто уцелеть. Необходимо постоянно сохранять холодную голову и высматривать в толпе наиболее характерных людей, которые к тому же находятся в эпицентре какого-то действа. Но всякое действие происходит в том месте, где сталкивается наиболее активная часть толпы с силами правопорядка. Ни те ни другие совсем не жаждут сомнительной «славы», и журналист имеет шанс оказаться «между двух огней». В такой ситуации легко получить какой-нибудь железякой по камере, либо в самый острый момент чья-нибудь ладонь вдруг закроет объектив. К этому нужно относиться философски, как к неизбежному риску.
Если камера не испорчена непоправимо, лучше подождать и снять все заново. Лучше, конечно, уйти с этого места. Человек, поднявший руку на камеру, остается безнаказанным и смелеет. Он может повторить свое действие, и результат окажется более плачевным. В режиме «чрезвычайных обстоятельств», как правило, репортер может помочь себе только сам. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!»
Все смешивается в августе-91. Силы правопорядка деморализованы. Они никому не мешают и ни во что не вмешиваются. Приказы им приходят противоречивые, так как руководство тоже размежевалось. Одни подчиняются члену ГКЧП Пуго. Другие, рангом поменьше, подчиняются российской власти.
Самое забавное, что на самом деле все, кто стоит у власти, вся номенклатура работают только на себя. Чем выше — тем тоньше водораздел.
В итоге активное противостояние происходит только на низовом уровне. Массы пичкаются недостоверной информацией, как ребенок недоваренной кашей. Получается, что люди верят в то, во что хотят.
Масла в огонь подливает и Предсовмина Иван Силаев. В одном из интервью он говорит: «У нас (российского руководства. — Ред.) нет танков и других видов оружия. Но у нас есть доверие российского народа, его поддержка...» Не касаясь общего настроения «оптимистической обреченности» этого интервью, видно, что в словах руководителя очень высокого ранга сквозит мысль о том, что российское правительство должны защитить безоружные люди. Содержится завуалированный призыв к народу грудью встать на защиту чиновников, которые не справляются со своими служебными обязанностями. С голыми руками идти против танков... В сущности, сейчас так оно и происходит... Десятки тысяч людей, совершенно безоружных и не подготовленных к боевым действиям, играют роль «живого щита».
Слава Богу, что опереточные правители, затеявшие бурю в стакане воды, оказываются попросту слабыми чиновниками средней руки, а не потенциальными диктаторами. Если бы они решились отдать приказ стрелять и все службы выполнили бы этот приказ, могло пролиться море крови совершенно невинных людей, которые остались верны идеалам цивилизованного мира.
К счастью, этого не происходит. Разложение пронизывает все структуры власти сверху донизу. На армию обрушивается нечто вроде «праздника непослушания». Неуверенность путчистов усиливается многократно при прохождении приказов по властной вертикали. В итоге до младшего офицера и солдата приказ доходит в форме «совета». Хочешь — выполняй его, не хочешь — не нужно. Ни в том ни в другом случае тебе ничего не грозит.
Со стороны российских властей, в свою очередь, нажим усиливается. Выходит Указ Бориса Ельцина: «...сотрудникам органов прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел СССР и РСФСР, военнослужащим, осознающим ответственность за судьбы народа и государства, не желающим наступления диктатуры, гражданской войны, кровопролития, дается право действовать на основании Конституции и Законов СССР и РСФСР. Как Президент России, от имени избравшего меня народа, гарантирую вам правовую защиту и моральную поддержку. Судьба России и Союза в ваших руках».
Интересно, сколько солдат и офицеров «назубок» знают Конституцию? Тем более законы страны? Фактически своим Указом Президент России дает индульгенцию всему «беспределу», который может совершиться в эти по-настоящему тревожные дни и ночи.
Не зная закона, как его выполнять? А очень просто. Вступает в силу принцип «революционной целесообразности». Вместо того чтобы держать власть и править твердой рукой, в очередной раз ее добровольно отдают на откуп любым мошенникам и проходимцам.
Перед рассветом 20 августа к Белому Дому прибывают десантники из Тулы. На охрану Белого Дома встают профессионалы из ВДВ под командованием генерал-майора Александра Лебедя. На Калининском проспекте, который все чаще начинают называть Новым Арбатом, строятся бетонные заграждения. Из Питера сообщают, что войска, которые в полночь были должны войти в город, этот приказ ГКЧП не выполняют.
Иногда начинает накрапывать дождь, и защитники Белого Дома в блестящих от воды накидках из полиэтиленовой пленки напоминают издалека большой слет бабочек-однодневок.
Тем временем из регионов страны приходят противоречивые вести. Где-то начинают забастовку в поддержку российских властей, а где-то, напротив, бросают работу в знак поддержки ГКЧП. Находится повод не работать, и работа естественным путем прекращается. А зачем работать, если неизвестно, кто будет платить?
Около 7 часов утра окружение Ельцина объявляет о созыве общегородского митинга в полдень 20 августа, но место его проведения назначает у Дома Советов, в связи с тем что войска все еще блокируют Манежную площадь.
К полудню у Белого Дома начинается митинг. Такого наплыва народа площадь еще не знала. Я стою практически у самого микрофона, к которому подходят ораторы. Подразделение воздушно-десантных войск, которое охраняло Белый Дом в течение ночи, сворачивается и уходит, оставив его практически без войскового прикрытия. Обстановка вокруг обостряется. Стоя на перилах балкона, я с трудом балансирую на самом краешке. Место не самое лучшее, но коллегам, стоящим на полу, сжатым толпой, приходится еще хуже. Они практически блокированы охраной. Некоторые фотографы не могут даже поднять камеры.
К микрофону подходит Ельцин. Охрана, раздвинув плотное кольцо журналистов, разворачивает чемоданчики, которые приносит с собой. Эти «чемоданчики-кейсы» оказываются сложенными в гармошку броневыми щитами, которыми они закрывают Ельцина спереди. Говорят, что на окрестных домах где-то притаились снайперы. Эти щиты на самом деле довольно иллюзорная защита, так как большая часть фигуры и голова остаются без прикрытия. Разве что в распоряжении ГКЧП остаются только кривые снайперы или неумехи...
Сделав несколько снимков выступающего Ельцина, я пытаюсь выбраться из толпы. Но не тут-то было. Приходится разрядить камеру и перебросить пленку коллегам, находящимся в более удобном положении... Возвратившись на свой неустойчивый «насест», продолжаю съемку...
Агентства новостей распространяют информацию о том, что международное сообщество, выждав несколько часов, заняло решительную позицию неприятия комитета. Из разных регионов России приходят сотни телеграмм о поддержке российской власти. Наверное, для «гекачепистов» это было подобно холодному душу. «Запрещенные» комитетом газеты и радиостанции продолжают работать. Газеты размножаются на ксероксах, а радиостанции вещают прямо из стен Белого Дома. При поддержке военно-морских связистов Белый Дом подключен ко всем видам дальней связи...
После окончания митинга большая часть собравшихся присоединяется к защитникам Белого Дома. Все объявления штаба транслируются через хриплые громкоговорители и мегафоны, разбросанные по стенам. Объявления звучат такие, что люди невольно начинают нервничать. Несколько раз штаб предлагает покинуть площадь женщинам и подросткам. Потом вдруг начинается раздача противогазов. Множество раз звучат объявления о том, что вот-вот начнется штурм Белого Дома...
К пяти часам вечера разносится весть о том, что в восемь намечен штурм здания Моссовета. Моссовет и мэрия Москвы обращаются к москвичам с просьбой прибыть на Тверскую улицу и стать свидетелями кровопролития... Естественно, в семь часов вечера я уже у здания Моссовета. Если сейчас мне предложат повторить свой маршрут по кривым переулкам и проходным дворам, который я проделал на машине в тот вечер, я, наверное, не смогу сделать это даже под страхом смерти.
В каком-то месте фары выхватывают военную машину и людей, грузящих на нее загадочные тюки и коробки. Только неожиданность появления спасает меня... Люди с этими коробками на какое-то мгновение застывают в ярком свете фар. Прижав машину к стене дома, я на скорости пролетаю мимо и быстро сворачиваю в другой переулок. Вслед мне летит автоматная очередь, и пули разочарованно обваливают штукатурку на стенах домов.
Что за люди, что они грузили, остается загадкой для меня и по сей день... Но если судить по тому, что они без раздумий пустили в ход оружие, я чуть было не влез в какие-то крутые дела.
Хорошо, что выключаю свет в машине. Остается только надеяться, что мой номер разглядеть не успели.
Оставляю машину в Газетном переулке и выхожу на Тверскую к Моссовету. Добровольные патрули образованы и здесь. Они останавливают меня каждые несколько шагов и проверяют документы. К моменту объявленного штурма я уже подхожу к Моссовету. Из окна второго этажа на всю площадь голосом Гайдара орет громкоговоритель. Перехожу улицу к памятнику Юрию Долгорукому и занимаю удобную позицию для съемки штурма. Проходит час, другой...
По-прежнему по всей улице горят костры, на перекрестках высятся баррикады. Дождь, который накрапывал вначале редкими каплями, стоит сплошной шуршащей стеной. Никаких приготовлений к штурму не заметно. Прождав почти два с половиной часа, возвращаюсь к машине и еду в сторону Белого Дома. Радио в машине настроено на прием передач из Белого Дома. Со ссылкой на решение Моссовета сообщается, что сегодня, 20 августа, с 23 часов в Москве будет объявлен комендантский час и начнется вывод войск из Москвы...
Смотрю на часы. Уже полчаса как начался «комендантский час», а я все кружу переулками и проходными дворами, пробираясь к Белому Дому. За кинотеатром «Октябрь» дорога закрыта окончательно. Ехать совершенно некуда. Все жители окрестных домов пригнали сюда свои машины, надеясь на то, что бронетехника в узкие переулки не сунется и машины будут в сохранности.
Выхожу на перекресток Калининского проспекта с Садовым кольцом. На мосту над Садовым чернеет плотная кричащая толпа. К перилам, огораживающим вход в тоннель, толпа становится гуще. Очень много пьяных. Над головами витает густой дух водочного перегара. К перилам подойти невозможно, и я выбираюсь из толпы. Под ногами звенят и перекатываются бутылки, хрустят стеклянные осколки. Калининский проспект заполнен до отказа веселящейся молодежью.
Вдали, ближе к Смоленской площади, полыхают троллейбусы. Чуть ближе к тоннелю стоит горящая боевая машина десанта — БМД. Солдаты вместе с пожарными пытаются ее погасить. Для многих зевак горящие машины — лишь еще одно щекочущее нервы зрелище. Может быть, завтра, когда пройдет угар этой ночи, отмеченной ожиданием штурма, стрельбы, еще большей крови, кто-то из них оглянется и ужаснется тому джинну, который был выпущен из заточения и захватил неокрепшие души. Но если властители попирают закон, чего же ждать от подданных уважения к нему?
Обхожу толпу у входа в тоннель под мостом и натыкаюсь на знакомого полковника:
— Что случилось?
— Человек погиб... — растерянно машет он рукой и идет в сторону чернеющего зева тоннеля, подсвеченного горящими машинами...
Поперек Садового кольца у входа в тоннель стоит цепочка милиционеров и солдат. Они, пропустив полковника, преграждают мне дорогу. Но офицер, повернувшись, негромко, но жестко командует:
— Пропустить!..
Мы проходим нижнюю точку тоннеля и начинаем подниматься к горящим машинам.
— Как было дело?
— Мы получили команду на вывод из Москвы и пошли. Но толпа решила, что мы идем на штурм Белого Дома, и начали нас забрасывать бутылками с горючей смесью. Подожгли машину...
Подбегает молоденький лейтенант:
— Товарищ полковник, сюда нельзя, в БМД полный боезапас. Рвануть может...
— Так тушите скорее!
— Так точно...— невпопад козыряет лейтенант и бежит к горящей машине.
Дождь на дороге собирается в ручейки, весело текущие нам навстречу. Они переливаются всеми цветами радуги от попавшего в них горючего. Один из ручейков — глубокого красного цвета. В нем вода смешана с кровью... На обочине дороги навзничь лежит молодой парень в спортивном костюме. Рука, свисающая с обочины на проезжую часть, сочится свежей кровью...
— Он попытался открыть задний люк машины, и это ему удалось... Солдат то ли нечаянно, то ли со страху выстрелил и захлопнул люк. Тело тащилось за машиной... Глупо как! — восклицает офицер. — Ведь мы уходили!.. Уходили!.. Но кто в это поверит? Клоуны! Подставили нас...
Очень скоро с горящей военной машины сбивают пламя. Вторая машина пытается таранить горящие троллейбусы, чтобы пробить путь колонне. Но ее водитель, видимо, не выдерживает напряжения и, боясь, что пламя перекинется на его машину, разворачивается практически на месте, задевая другие троллейбусы, из которых составлена баррикада.
Рев пламени заглушает голоса, но вдруг на машину запрыгивает еще один молодой человек в спортивном костюме. Он держит в руках большой кусок брезента и пытается набросить его на смотровые щели. Водитель, потерявший ориентировку, бросает машину в тоннель, но она снова натыкается на троллейбусы. От удара парень срывается с машины — и еще через секунду все кончено. Молодой, полный сил и здоровья человек оказывается под гусеницами... Новые струи крови смывает дождь, и они ручейками бегут в тоннель. Толпа, которая только что свистела, кричала и улюлюкала, замолкает и, кажется, трезвеет... Из звуков остаются только гул и треск пламени, пожирающего троллейбусы, да шелест дождя...
...Возвращаюсь к Белому Дому. Вокруг него царит состояние, близкое к панике. Вице-президент России Руцкой по радио обращается к защитникам Дома Советов. Во избежание кровопролития он призывает всех отойти от здания на пятьдесят метров и не вступать в столкновения с военными. Предупреждает собравшихся о том, что на прорыв могут пойти сотрудники КГБ, одетые в штатское. Что он приказал охране открыть огонь по нападающим... Что по Кутузовскому проспекту движется колонна Кантемировской дивизии. Ее солдаты не знают, что происходит вокруг Белого Дома...
Люди возле Белого Дома, выслушав это выступление, встают вокруг огромного здания, взявшись за руки, и образуют живое кольцо. По всему периметру под усилившимся дождем выстраиваются люди, которых вывело из дома беспокойство за судьбу России.
Я решаю выяснить все про танки и Кантемировскую дивизию и прохожу все «кольца», ныряя под сцепленные руки. Возле моста стоят несколько мотоциклистов-рокеров.
— Мужики, там по Кутузовскому танки...
— Какие танки? — удивляются они. — Мы оттуда только что приехали, так там даже гаишников нет, не то что танков...
— Поехали, прокатимся, проверим. Руцкой сказал...
— А-а! Руцкой! Ну поехали...
Сажусь на заднее сиденье ревущего чудовища, и мы с сумасшедшей скоростью пролетаем весь проспект, выезжаем на Можайское шоссе и катим до самой окружной дороги. Тишина и безлюдье поразительные. Не встретив ни души, возвращаемся.
Жизнь начинается только у первой баррикады у Калининского моста через Москва-реку, возле которой горит костерок и греются, стоя под зонтиками, несколько женщин. Когда мы возвращаемся, они спрашивают с тревогой:
— Ну что? Видели танки?
— Нет там никаких танков...— успокаиваем мы женщин.
— Да нет, вот по радио передали. Сам Руцкой говорил...
— А мы своими глазами видели, нет там никого...
— Ну, слава Богу!
— Ребята, подбросьте меня еще немного, ноги уже не ходят, я там машину бросил...
— Там! Машину! — хохочут мотоциклисты. — Там уже все машины, наверное, раскурочили. Поехали!
Еще пара минут свиста ветра в ушах, и мы подъезжаем к поредевшей толпе у перекрестка. Я прощаюсь с мотоциклистами и бегу во двор дома, где оставил машину. Нахожу ее целой и невредимой. С трудом выбираюсь из тесного дворика и прямо по газонам, через бордюры выезжаю на Калининский проспект. Сквозь толпу просачиваюсь медленно, мигая фарами и включив «аварийку».
Совсем осмелев, следующую остановку делаю прямо под зданием СЭВа. В случае чего там есть хитрая дорожка, выводящая к гостинице «Мир» и американскому посольству. На Садовом кольце чадят, догорая, невинно пострадавшие троллейбусы. Вокруг них суетятся пожарные.
Последние танки и бронетранспортеры покидают город, а вокруг Белого Дома, ожидая их наступления, все так же взявшись за руки, стоят десятки тысяч людей. О том, что «переворот» закончен, они еще не знают.
* * *
К четырем часам утра вся военная техника исчезает с московских улиц, оставив на асфальте рубчатые следы гусениц, напоминающие о почти «бескровной», бездарной попытке переворота в августе 1991 года.
Еще неделю громоздятся на лестницах Белого Дома баррикады, на которых уже проходят рок-концерты и фестивали. Потом окончательно развалится Союз, и Горбачев, триумфально вернувшийся из Фороса, навсегда останется первым и единственным Президентом несуществующего государства.
Снимут памятник Дзержинскому на Лубянке, свергнут еще несколько идолов. С помпой, красиво похоронят героев, отстоявших «демократию» в России, и жизнь войдет в нормальную колею с карточками на продукты, с бешеными очередями за водкой и дефицитными товарами, но это будет уже другая история...
© Центр экстремальной журналистики

